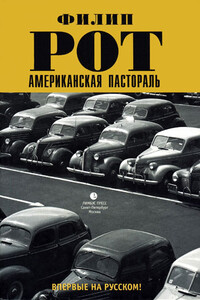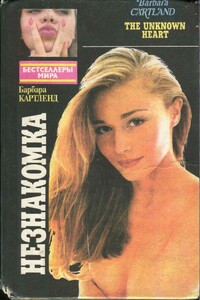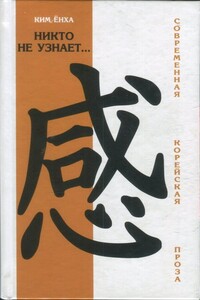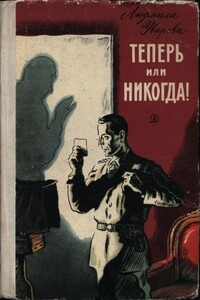Урок анатомии: роман; Пражская оргия: новелла | страница 96
— Я хочу новую жизнь. Все очень просто.
— Но на что ты рассчитываешь? — спросил Бобби. — Что ты каким-то образом сотрешь все, что было, и начнешь заново? Не верю, Цук. Если ты на самом деле этого хочешь, зачем выбирать профессию, требующую самой изнурительной учебы? Найди что-нибудь полегче, чтобы не так много потерять.
— То, что легче, не удовлетворит потребности в чем-то трудном.
— Заберись на Эверест.
— Это все равно что писать. Один на горе, с ледорубом. Ты там наедине с собой, и задача практически невыполнима. Писать — это то же самое.
— Став врачом, тоже будешь сам с собой. Когда склоняешься над кроватью пациента, вступаешь в очень сложную, особую связь, которую создаешь годами обучения и опыта, но где-то в глубине ты по-прежнему наедине с собой.
— Для меня это не то же, что «сам с собой». Любой умелый ремесленник так себя чувствует. Когда я сам с собой, я обследую не пациента. Да, я склоняюсь над кроватью, но в ней лежу я сам. Есть писатели, которые начинают с другой стороны, но то, что выращиваю я, срастается со мной. Я слушаю, слушаю внимательно, но все, что у меня есть, — это моя внутренняя жизнь, а внутренней жизни с меня довольно. Пусть даже от нее немного осталось. Субъективность тут главное. А этого с меня хватит.
— Ты только от этого убегаешь?
Сказать ему? Может Бобби меня вылечить? Я сюда приехал не лечиться, а учиться лечить, не погрузиться снова в боль, а создать новый мир, в который я смогу погрузиться, не принимать пассивно чьи-то заботу и внимание, а овладеть профессией, которая учит их предоставлять. Если я ему расскажу, он положит меня в больницу, а я приехал в медицинскую школу.
— Жизнь моя стала жвачкой, от этого и бегу. Проглатываешь как опыт, потом отрыгиваешь и еще раз глотаешь — уже из любви к искусству. Жуешь все подряд, ищешь связи — слишком много держишь в себе, Боб, слишком много копаешься в прошлом. И все время сомневаешься, а стоит ли это таких усилий. Неужели я ошибаюсь, предполагая, что у анестезиолога на сомнения уходит половина жизни? Вот я смотрю на тебя и вижу большого, уверенного в себе бородача, который ни секунды не сомневается в том, что он занимается стоящим делом и делает его хорошо. Ты помогаешь людям, и с этим не поспоришь. Хирург вскрывает пациента, чтобы изъять то, что сгнило, а пациент ничего не чувствует — благодаря тебе. Все ясно, четко, безусловно полезно и нужно. Я только завидую.