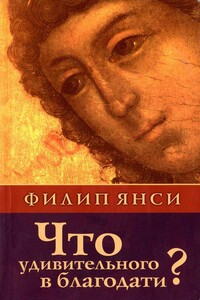Дитя и болезнь. Неведомый мир по ту сторону диагноза | страница 55
«Меня раздражает, как со мной говорят врачи. Мой лечащий доктор говорит так, как будто знает, о чем я думаю, и утешает меня».
На всякий случай, чтобы прояснить ее отношение к нашему разговору, я спросил, раздражает ли ее что-то в нем.
«Нет, с вами я сама говорю, то, что я (она сделала смысловое ударение. — А.Х.) думаю, а врачи часто мне говорят о том, что, по их мнению, думаю я».
Иван, мой собеседник из того же отделения, вторит Марине:
«Когда они (врачи. — А.Х.) так говорят, получается, что они навязывают мне свое мнение».
Дело здесь не в подростковой борьбе за свои права. И не в раздражительности из-за плохого самочувствия. Такая реакция вызвана ощущением препятствия на пути проявления своих чувств, ущемлением свободы выражения — того немногого, что по-прежнему доступно ребенку. Если этой свободы ему постоянно не хватает, возникает досада: «опять не то, опять не о том». И каждый такой эпизод станет очередным подтверждением непонимания окружающими. Марине, Ивану и всем остальным детям важнее рассказать о себе, чем быть предугаданными собеседником.
Эти строчки из стихотворения Константина Бальмонта помогают нам представить состояние ребенка, лишенного заинтересованного слушателя.
На пороге затерянного мира
«Что говорить?» — это самый частый вопрос, возникающий у тех, кто собирается общаться с болеющим ребенком впервые.
Вспомнив сказанное выше, вопрос «Что я скажу ребенку?» можно переформулировать так: «О чем я могу его спросить?» Спросив, а потом внимательно выслушав ответ, мы дадим собеседнику возможность проявить себя, выразить в слове что-то связанное с ним самим. А мы в этих словах можем уловить важную для него тему, которая и станет основной в этом разговоре.
Мы часто слышим: «эти слова затронули что-то в моей душе» или «я тронут до слез вашими словами». Это не просто красивые метафоры. Слова действительно могут касаться души. Разговор на определенную тему затрагивает связанные с ней области душевной жизни человека. Так и первый разговор с болеющим ребенком должен быть разнообразным и по возможности охватывать всю его жизнь. За это время мы можем прикоснуться к самым болезненным точкам в переживаниях ребенка. Только приблизившись к чему-то важному для него, мы сможем помочь ему переосмыслить ситуацию — он начнет понимать, что разговор в больнице может касаться не только больничных тем.
Некоторые дети, правда, настолько погружены в реальность болезни, что без предварительных вопросов, скажем, о результатах его анализов разговор вообще не получится. Но это будет скорее некий психотерапевтический ход для присоединения к его реальности, нежели собственно цель встречи.