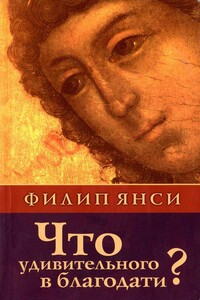Дитя и болезнь. Неведомый мир по ту сторону диагноза | страница 54
«Письма, посещения, телефонные звонки были для тебя жизненно необходимыми формами коммуникации и не менее важны, чем курсы химиотерапии!»[92]
Вдумаемся. Общение «жизненно необходимо», более того, оно равнозначно химиотерапии! И это пишет не отстраненный от ситуации ученый и не журналист, которых можно было бы упрекнуть в том, что «им легко говорить, они не знают, что такое тяжелая болезнь». Это пишет мама страдающего ребенка! Думается, она вряд ли позволила бы себе пустые сравнения. А вот слова самой Изабель:
«Предыдущий курс буквально травмировал меня, и я с трудом изживала из себя его последствия в бесконечном общении с людьми. К счастью, нашлось много тех, кто захотел мне помочь…»[93]
Конечно, содержательно это изживание последствий лечения происходит у всех детей по-разному, но форма всегда будет общей — превращение, переплавление болезненных переживаний в слова. Собственно, только в этом случае все произошедшее становится по-настоящему пережитым. А будучи высказанным, оно хотя бы отчасти перестает тяготить душу ребенка.
Стремление ребенка высказаться бывает так велико, что при отсутствии личного общения «наболевшее» выражается в форме писем или дневников. Вспоминает мама Изабель:
«Все сильнее становилась твоя потребность выразить и закрепить свои мысли на бумаге. Как только твое физическое состояние позволяло тебе это, ты тут же писала письма… писала часами, а иногда и все ночи напролет»[94].
Что стоит за этим стремлением? Как минимум жажда поделиться тем, что живет внутри. Об этом говорит и сама Изабель:
«…За последнее время я открыла для себя, что мне нравится писать письма.
Те, которые обязательные, пока еще не доставляют мне удовольствия, а вот те, в которых мне есть что сказать “получателю”, приносят огромную радость»[95].
В словах «есть что сказать» сошлись два момента: во-первых, Изабель говорит о радости выражения в слове своих собственных переживаний, когда ей есть что сказать. А во-вторых, о радости от того, что для этих слов нашелся «получатель», другой, который благодаря этим словам может разделить чувства и мысли «отправителя». Ребенку, лишенному такой возможности, запертому вместе со своими переживаниями «где-то там внутри себя», будет тяжелее справляться с происходящим.
Слова Марины хорошо иллюстрируют такую ситуацию. Эта девочка-подросток лечилась в отделении онкологии. Состояние было тяжелым: химиотерапия не давала нужного эффекта. Боли одновременно и провоцировали страхи, и усугублялись ими. Зная это, врачи разговаривали с ней, что само по себе хорошо, но при этом допускали ошибки, о которых Марина рассказывала так: