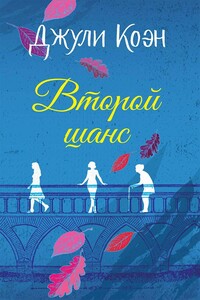Дети победителей | страница 17
— Пожалуй, да… Даже если у него крестик на шее.
— Или в прицеле, — добавил Ахмед.
Я извинился и вышел в туалет. Возвращаясь, увидел, что напротив чеченцев в вестибюле стоит высокий русский парень блатного вида и что-то резко выговаривает им, с явной претензией на правду. Чеченцы, не вставая, угрюмо смотрели на оратора и что-то цедили в ответ сквозь зубы. Я понял: это еще одна мелкая разборка между крупными этническими группировками.
Ахмед был спокоен, как восточный вельможа. На столе стояли два салата и горячие блюда с тушеным мясом и зеленью.
— Обстановка в городе накаляется, — заметил он, дымя сигаретой. — Может быть, выделить вам двух человек для охраны?
— Что, так все серьезно? — удивился я.
— Война, деньги — дело серьезное.
— Спасибо, — ответил я, — пока не надо.
— Мне звонил человек с телевидения, хотел встретиться… Что вы думаете по этому поводу?
— Он читал мою статью?
— Да.
— Как звать?
Ахмед Магомедович достал из кармана маленькую записную книжку, полистал.
— Сергей Берестов. Что за человек, не знаете?
— Я думаю, нужно воспользоваться случаем. Знаю — хороший парень.
— Тогда я завтра позвоню ему.
Мы посидели еще с полчаса. Ахмед Магомедович рассказал, что передавали его друзья по телефону из Грозного и Москвы. Убийства мирного населения в Чечне принимали масштабный характер.
И когда я вышел на улицу, как-то сразу вспомнил об охране, от которой легкомысленно отказался.
Будьте уверены, что, покуда просвещение не откроет новых средств к довольству и торговля не разольет его поровну во всех ущельях Кавказа, горцев не отучат от разбоев даже трехгранные доказательства ваши (штыки).
А. А. Бестужев-Марлинский, писатель, декабрист, воевал на Кавказе с 1829 года, куда выехал из якутской ссылки.
Я начал менять время выхода из редакции и маршруты возвращения. Мне хотелось идти и идти по этому городу, мимо людей, транспорта и остановок, идти и идти, чтобы выйти, в конце концов, из этого бесконечного запоя. Поэтому я уже третий километр двигался в сторону дома пешком и читал собственные стихи, как молитвы:
«Вот и время пришло — начинается шмон… В нашем желтом бараке разрешается так. Как натянут на фибру суконный погон, так находит пергаментом страх на костяк. В переулках Перми, на прямых перегонах шевелится кожа — сапоги и шубы наших серых мышей и крыс при погонах специальной хозяйственной медицинской службы. А Пермь, как говорил астролог Павел Глоба, — благое место, то есть с большим зарядом! Пермь петроградцы называют ретроградом, я утверждаю — называют зря, поскольку получилась крышка гроба из досок колыбели Октября. Я так отвыкну от одеколона, смотри, опять в ментовском кабинете с армянским коньяком и ломтиком лимона меня приветствует земеля по планете. Ну что сказать тебе, бедный сухумский абрек? Абрикосами можно и проторговать… Я так сильно люблю этот город и снег, что почти разучился прощать папу вашего и вашу мать. Бесполезные слезы мешают писать, тянет левую руку магнитная сила. Хоть бы мне заземлили на время кровать, чтоб железное ложе меня отпустило. Надоело кивать головою над бездной, будто солнце не в космос, а в камеру село… Я загнусь, загрузившись в отсеки Вселенной, по парсекам развеяв молекулы тела. Что мне Пермь, господа! Вот фартовый удел номеров телефонных на мокром погосте… Не суди меня, Господи, как я хотел, чтобы ты не заметил похмелья и злости».