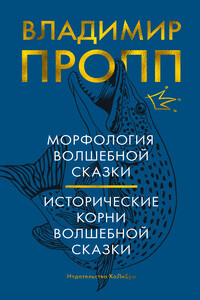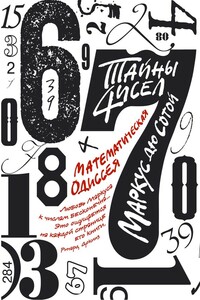Педагогика угнетенных | страница 42
То же самое справедливо в отношении уважения угнетателя как отдельной личности. Осознание того, что он выполняет роль угнетателя, может стать причиной сильных душевных мук, но совсем не обязательно, что оно приведет к солидарности с угнетенными. Рационализация вины через патерналистское отношение к угнетаемым, которых при этом не переставая держат на коротком поводке зависимости, не сработает. Выразить солидарность означает войти в положение тех, с кем ты солидарен; это радикальная позиция. Если, как пишет Гегель[79], угнетенных характеризует их подчинение сознанию хозяина, настоящая солидарность с угнетенными подразумевает борьбу на их стороне – борьбу за трансформацию объективной реальности, которая сделала их «существующими для других». Угнетатель станет солидарным с угнетенными только тогда, когда он прекратит относиться к ним как к некой абстрактной категории и начнет видеть в них личностей, с которыми обращаются несправедливо, которых лишили голоса, чей труд преступно обесценивается, – когда он прекратит делать благочестивые, сентиментальные и индивидуалистические жесты и рискнет действовать во имя любви. Настоящую солидарность можно увидеть только в безграничности этого акта любви, в его экзистенциальности и в его праксисе. Лицемерно утверждать, что мужчины и женщины – это личности и, будучи таковыми, заслуживают свободы, но при этом на практике не делать ничего, чтобы воплотить эти принципы в жизнь.
Поскольку противоречие «угнетатель – угнетенный» устанавливается в конкретной ситуации, разрешение этого противоречия должно быть объективно подтверждено. Отсюда вытекает обязательное условие – как для того, кто осознал себя угнетателем, так и для угнетенных: эту конкретную ситуацию, порождающую угнетение, необходимо изменить.
Выдвигать это радикальное требование объективной трансформации реальности, сражаться с субъективистским параличом, который может превратить осознание угнетения в тихое ожидание того, что оно как-нибудь исчезнет само по себе, не означает упускать значимость субъективности и ее роль в борьбе за изменение существующих структур. Напротив, невозможно вообразить объективность в отрыве от субъективности. Они неделимы и не могут существовать друг без друга. Отделение объективности от субъективности, отрицание последней во время анализа реальности или воздействия на нее, – это объективизм. И то же время отрицание объективности в ходе анализа или действия ведет к субъективизму, который в свою очередь толкает к солипсизму: такая позиция подразумевает отрицание действий как таковых, поскольку отрицает объективную реальность. В данном случае речь идет не об объективизме, не о субъективизме и даже не о психологизме, а о субъективности и объективности в постоянном диалектическом взаимодействии.