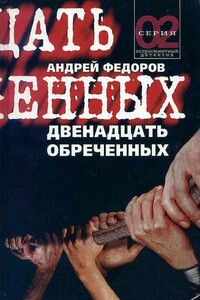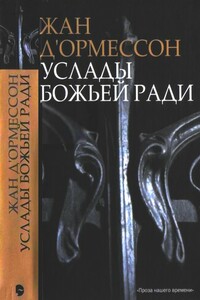Желтый караван | страница 7
Она глядела поверх чашки, осторожно поднося к губам горячий край ее, смешно щурилась от пара, а на ее лбу плясал водянистый «зайчик» — отражение из чашки.
— А ты хотела, чтоб я на пианине к ним ходил играть?
— На пианино. И в носу не ковыряй. Вот разбогатеем! — смеялась она и смотрела на Генку так, что он вспоминал виденную недавно в углу у бабки Фроськи икону, из которой смотрели с беспощадной любовью глаза «боженьки», и вспоминал, как говорят про мать соседки: «в глазах-то душа» и «душа-человек».
— А у них еще и телевизор есть?
— Есть, кажется.
Генка знал, что задавать вопрос «почему» нельзя слишком часто. Нельзя же все время спрашивать, почему у Юрки есть пианино. Есть, и все. У Андрюхи вон даже отец есть, но этот вопрос самый страшный. Если об этом спросить, то мать поднимет лицо, будет неподвижным взглядом смотреть в потолок, а левая рука ее начнет хлопать по столу в поисках, наверное, коробки с папиросами «Беломор», хотя она уже «давным-давно» бросила курить. И мать несколько минут не опустит голову и ничего не скажет, даже если Генка от ужаса будет кричать и хватать ее за колени и за руки…
— На следующий год, может, я чего-нибудь придумаю. И ты уже побольше будешь. Надо жить нормально. Вопреки всему! Правильно? Ну… пока хватит сил. А? А эту Веруню!..
Веруня же с раннего утра начинала делать свое черное дело — пела. Вечером Генка умилял мать романсами и ужасал частушками.
— Что такое?! Молодая девушка! И где она нахваталась? (Мать имела в виду романсы.) Чушь! Примитив! Такое уж лет двадцать не поют! Это еще моя мама пела. Просто это… и смешно и грустно! Да?
И она иногда сама напевала, прежде почему-то отставив чашку и далеко отодвинув чайник, словно они своим убогим видом («стиль-утиль», как она говорила) мешали ей видеть прекрасное, наверное, прошлое:
Генка перестал спрашивать ее об отце, но слышал как-то в общем коридоре за спиной:
— Сиротинка бегает. А она-то что пережила!..
Он не понял тогда ничего и не очень задумывался об этом. Почти у всех его приятелей не было отцов.
Мать рассказала ему все, и он все понял лет через восемь или девять, когда давно уж и след простыл Верунин. Генка иногда встречал ее у проходной швейной фабрики. Она усмехалась и никогда не здоровалась. А вместо романсов Генка пел теперь что-то вроде: «Эй, рок, лэт гоу, рок, рок, рок!» И в это время как раз, главное, в их комнате наконец-то появился черный облупленный ящик на ножках — клавесин.