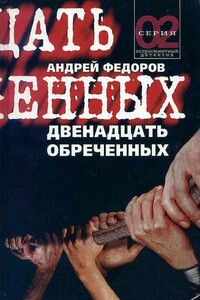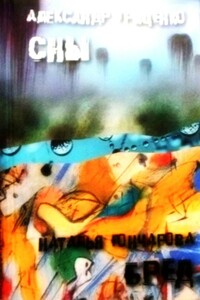Желтый караван | страница 24
— Ты тоже пытался? Любую?
— Нет! Не моего ума. Куда мне! В конце тридцатых-золотых я на боевом посту стоял и одновременно учился. Кормили хорошо. Ежов подвел. А сейчас я что? Можно сказать, любитель. Любитель истины.
— Вон той? В водке? А с кормежкой как?
— Ну, на нас двоих всегда хватит. Не обжираться же. Все зачтется, не боись!
В тот вечер Аза впервые увидела у Ялдыкина серебряную ложку с буквой «С», выгравированной на черенке. Такую же, как у Анны Ивановны.
— Вы тех, кого арестовывали, грабили, что ли? Или вам платили с головы? Продуктами, вещами?
— Что-то не то говоришь! Смотри у меня! Хорошо я, а кто другой услышит? Чего их грабить? Сами дарили. Это бывало.
— Кто?
— Да так. Сердобольные родственники. Чтоб им, сердешным, мягче спалось!
— А вот тут «С». Это что?
— Может, графья какие. Хотел спилить, да жалко, серебро все ж.
Так было в тот вечер…
— Кое-что пропало у меня, — сказал Ялдыкин. Он следил за ее лицом.
— У тебя… холодно, — сказала Аза. Боялась двинуться, чтобы не прошиб озноб.
— И холодно, да. И неуютно. Как в морге, — согласился Ялдыкин, — и опасно. Да. Кстати, я специальные приметки делаю. Без моего ведома сюда никто не войдет. Никто. А кроме тебя здесь уж лет семь никто не бывал. Ну?
— Я у тебя ничего не брала.
— А кое-что есть тут. А пуще того — было! Ну?
— Может, сжег бы ты все? Воздуху больше будет. И теплее, если в камине сжечь. У меня вот дома койка да стол. Пусть хоть сгорят.
— Труды! — Ялдыкин смотрел на письменный стол. — По мере слабых сил, по совести. Долг свой выполняли.
— Много ты, видно, задолжал.
— Вот и задумался я на днях: а как нынче, в трудные для честных людей времена, долг свой Азочка моя понимает? Как в газетах пишут? А если, скажем, как она его понимала годков семь-восемь назад?
— А как тогда писали. В газетах.
— Вот-вот! — Ялдыкин неряшливой своей походкой отправился к столу, сел за него. — Так что, кроме тебя, короче, никто здесь не бывал!
— Я не знаю. И дела мне нет.
— Я зато точно знаю. И даже более того. Чемоданчик я твой, а тогда, если помнишь, такая у тебя сумочка-ридикюль была, я вроде, кроме двух-трех разов, всегда ее проверял. По долгу службы, как в газетах пишут. Если ты, например, в туалет или поспишь часок.
— Правда?
— Ну? Проверял, Азочка! И ничего такого.
— Я не сомневалась, что ты подонок.
— Ну, это понятие умозрительное. Сильно растяжимое, несмотря на всякие светлые перемены. Ну так что? Есть вот тут вещи, которые вообще уничтожению не подлежат. А есть вещи, которые никто узнать не должен. О которых и не расскажешь даже в этой, в предсмертной агонии́.