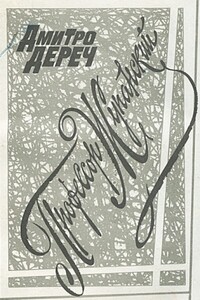Тоска по дому | страница 39
Я пожал плечами.
— Да ты не думай, они все хотят.
Я промолчал. Я не знал, может, и все. Да и он, похоже, не очень-то знал. Хотя уж наверное лучше, чем я. Это было нетрудно — знать лучше, чем я. Ему понравилась эта тема, он стал ее развивать. Я слушал, мне не было неприятно, даже, скорее, наоборот. Даже очень наоборот. И он это чувствовал. «Каждая баба… конечно, поначалу… даже самая такая…» Но потом как-то сразу мне надоело. У него было не так уж много сведений, он начинал повторяться. И запас слов был тоже невелик, и повторы смысла неизбежно выражались повторами фраз — это раздражало меня больше всего.
— Каждый новый парень, — говорил он, к примеру, уже в пятый или в пятнадцатый раз, — может ее заинтересовать!
И чувствовал, в пятый или в пятнадцатый раз, недостаточную убедительность этих слов, но сказать иначе не мог. И начинал снова, в шестой или шестнадцатый, с той же в точности интонацией — их ведь тоже было ограниченное количество.
— Каждый новый парень, понял?..
— Может, она и хочет, — сказал я наконец, — но только уж не с тобой… и не со мной.
«Не со мной», — я добавил только для смягчения, но он-то услышал, как ему хотелось, то есть именно это, а «не с тобой» — пропустил.
— Не дрейфь, — сказал он. — Ты, главное, не дрейфь. Не съест же она тебя. Вот сейчас подойдет…
— Все, пошли, — сказал я, вставая. Мне надоело, да и начинал я уже чувствовать потерю, какую и должен был чувствовать. Он схватил меня за руку и не отпускал, и все повторял: «Не дрейфь, не дрейфь!»
Она как раз подходила убрать посуду, подошла — и он с ней заговорил. Нет, и он еще не умел это делать. Мешали остатки детской застенчивости, да и слов своих никаких не было, только заученные, чужие. Он нырнул без оглядки, крепко держа меня за руку, скорее себя, чем меня, подбадривая. Неизвестно было, выплывет или нет. Так мы стояли, как дети, взявшись за руки, мы и были детьми, и он, скривив резиновую улыбочку, больше похожую на гримасу боли, проговаривал всю эту чепуху, будто сплевывал застрявшее в зубах мясо. Его тон был небрежен, слова приглушены нейтральными гласными («ну чтэ, ну кэк»), и я стоял рядом и тоже не молчал, а что-то такое добавлял, подвывал, проявлял необходимую солидарность.
Она взглянула и улыбнулась. Улыбка ее мне не понравилась. Текло время, кончался период, необходимый для того, чтобы послать нас подальше, а она улыбалась — и не посылала. Руки ее продолжали собирать посуду, а глаза глядели на нас (и на меня…), и светилось в них