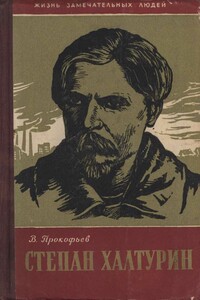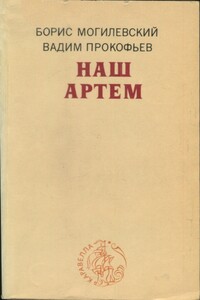Среди свидетелей прошлого | страница 67
Поэт проказлив, влюбчив, мрачен. Самые невероятные безумства, и при этом с обязательным нарушением воинской дисциплины, только щекочут его нервы. К тому же его к этому поощряет кокетливая Адель. Она тоже поэтесса, написала стихи и посвятила их Михаилу Юрьевичу. Но, увы, муж увозит ее в Крым. Если Лермонтов хочет получить эти строки, то пусть приедет в Крым. Нет, нет, только в Крыму она подарит ему их…
Тысячу верст в коляске за пять дней. Позади две загнанные лошади, сломанная рессора и станционный смотритель, чуть было не получивший пулю от яростного поручика.
И только за стихами? Ну, конечно же, нет. Милые проказы в бильярдной, нежные прогулки вдвоем. Увы, Лермонтову пора обратно на Кавказ. Последнее свидание:
«Адели нет. Собравши вокруг себя кучу нежно-золотых палых листьев, поэт ложится на них, плотнее закутавшись в бурку, и… засыпает… засыпает так крепко, что не слышит, как подошла Адель…
— Мишель?
И носок башмачка ее касается его головы.
— Вы ранены? — наклоняется она над ним, становясь на колени.
Лермонтов просыпается и вспоминает в мгновение, что должна была прийти Адель, и видит, что это она.
— Адель!.. Наконец-то!.. Как я рад! — целует он ее руку.
— Вы ранены? Что же вы?.. Вы… спали? — вдруг догадывается Адель…»
Конечно, вначале она негодует, но поэт так мил, так печален! Перед тем как уснуть, он написал французские стихи:
Теперь осталось их закончить.
Вечер вдвоем — мечты о Франции, мечты о счастье. А завтра — последний торопливый поцелуй на пристани под защитой широкой спины кучера, последняя попытка Лермонтова увезти, похитить Адель. И снова тысяча верст обратно, на Кавказ.
Она навсегда ушла из его жизни…
Искушенный читатель скептически улыбнется. Конечно, поэты могли быть и сумасбродами, но тот, кто выдумал эти похождения Лермонтова с женою французского консула в Одессе, разве не фантазер? И надо ведь придумать такое! Вот и верь историческим романам!..
Но напрасны сомнения, напрасно недоверие. Ни Сергеев-Ценский, которого мы цитировали, ни Б. Пильняк, ни К. Большаков, почти одновременно выступившие с романами (Б. Пильняк, Штосс в жизнь. «Красная новь», 1928, № 10; К. Большаков, Бегство пленных. Харьков, 1929; Сергеев-Ценский, Поэт и поэтесса. М. «Федерация», 1930), ничего не выдумывали. Ведь они писали романы исторические, их фантазия художников была ограничена строгими свидетельствами документов.