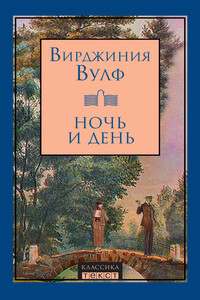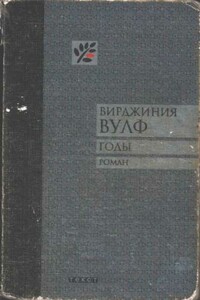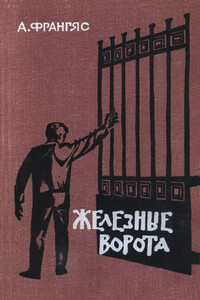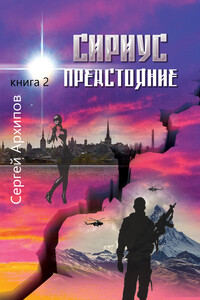Своя комната | страница 26
Тут мне припомнился чернослив с кремом. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно было открыть вечернюю газету и прочесть мнение лорда Биркенхеда, который считает, что… впрочем, не буду утруждать себя переписыванием мнения лорда Биркенхеда. Не будем касаться и высказываний декана Айнджа. Пусть эскулапы с Харли-стрит провозглашают свои идеи у себя на Харли-стрит – меня это не касается. Процитирую все же мистера Оскара Браунинга[13], который в свое время был важной персоной в Кембридже и экзаменовал студенток в Гертоне и Ньюнхеме. Мистер Оскар Браунинг обыкновенно утверждал, что в своей жизни он видел множество студенческих работ и «вне зависимости от оценок самая умная из женщин никогда не дотянет до худшего из мужчин». Высказав это соображение, мистер Браунинг возвращается к себе в комнаты – и этот эпизод делает фигуру мистера Браунинга понятной, живой и даже не лишенной величия – и видит, что на диване лежит конюх: худой, словно скелет, бледные щеки запали, зубы почернели, руки-ноги почти не слушаются. «А это Артур, – говорит мистер Браунинг. – Чудесный юноша, а какой благородный ум». Мне всегда казалось, что два этих факта чудно дополняют друг друга. По счастью, в наш биографический век у нас есть возможность сопоставлять факты подобным образом и судить великих мужчин не только по их делам, но и по поступкам.
Теперь это стало возможным, но с полвека назад подобные высказывания известных людей производили разрушительный эффект. Предположим, отец не желает, чтобы его дочь стала писателем, художником или ученым – из наилучших побуждений, конечно. Посмотрим, что думает на этот счет мистер Оскар Браунинг, говорит он. А ведь высказывается далеко не только мистер Оскар Браунинг. Есть «Субботний обзор», есть мистер Грег («Сама суть женщины, – пишет мистер Грег, – выражается в подчинении мужчине и опоре на него»), есть целый корпус мужских мнений, которые сходятся в одном: в том, что касается интеллекта, от женщин ждать нечего. Даже если отец и не зачитывал эти высказывания вслух, любая девушка могла прочесть их самостоятельно, и это не могло не повлиять на ее настрой и работу самым губительным образом. Приходилось все время бороться с высказываниями вроде: ты не можешь того, не способна на это. Возможно, в писательском ремесле этот недуг уже преодолен: есть же, в конце концов, выдающиеся женщины-писатели. Но женщинам-художникам должно быть по-прежнему нелегко, не говоря уж о женщинах-музыкантах. В наши времена женщина, сочиняющая музыку, находится в том же положении, что и актриса в эпоху Шекспира. В выдуманной мной истории о сестре Шекспира Ник Грин заявил, что женщина на сцене – все равно что танцующая собака. Двести лет спустя Джонсон сказал то же самое о женщине за церковной кафедрой. Я открыла книгу о музыке, где по отношению к сочинительницам музыки вновь употреблялось то же выражение – в 1928 год от Рождества Христова. «Что касается мадемуазель Жермен Тайфер, можно лишь повторить афоризм доктора Джонсона о женщинах, сочиняющих проповеди, но в музыкальных терминах: женщина, сочиняющая музыку, подобна собаке, гуляющей на задних лапах. Получается так себе, но чудо, что вообще получается!» Как точно история воспроизводит саму себя.