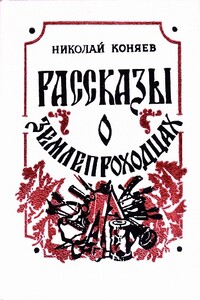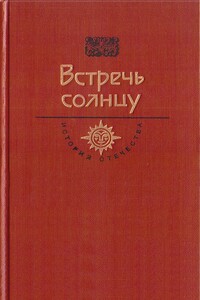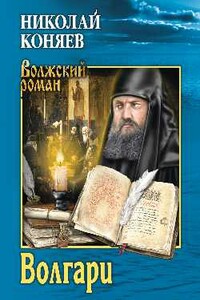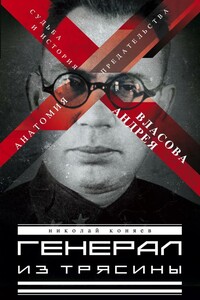Алексей Кулаковский | страница 94
Алексей Елисеевич Кулаковский рождается из этой продолжающей жить в якутском быте фольклорной культуры, и на первых порах его произведения и он сам воспринимаются как часть этой культуры.
«Поэзия А. Е. Кулаковского впервые в якутской традиции складывается в целостную поэтическую систему, автономность которой определяется устойчивостью жанровой структуры, мифологической концептуальностью и, не в последнюю очередь, эстетической «завершенностью» стиха… — пишет Надежда Покатилова. — Во-первых, в известной мере расцвет творчества Кулаковского означает гиперболизацию (и в этом смысле «канонизацию») основных черт традиционного аллитерационного стихосложения, возведение их в определенный метрический принцип — аллитерационный по своей сути. Творчество Кулаковского предстает как небывалый расцвет именно аллитерационной поэзии, а в ней — аллитерационного стиха. Во-вторых, поэзия Кулаковского представляет собой литературную фазу в эволюции якутского аллитерационного стиха. Самобытность этой поэзии определяется тем, что это, по существу, единственные в своем роде образцы литературного аллитерационного стихосложения. Тем самым в стихе Кулаковского почти с самого начала происходит заметный семантический (и синтаксически выраженный) сдвиг, связанный с особенностями создания литературного текста. В-третьих, в обозначенной нами перспективе «становления» литературного стиха суть вопроса заключается не столько в том, каким образом произошел переход от фольклорного текста к литературному в конкретном творчестве, сколько — в том, почему литературное преодоление традиционного стиха стало возможным в поэзии, впервые сложившейся как система».
Но это понимание придет столетие спустя, а в начале века ответа на вопрос, кто такой Кулаковский и что такое его стихи, не знал и сам Алексей Елисеевич.
Записывая сказки, пословицы и предания, сочиняя стихотворения и поэмы, он относился к своим занятиям как к служению, к которому он призван, которым ему нельзя не заниматься, как шаману нельзя не шаманить, но которое может и не предполагать материального вознаграждения.
Первые вилюйские месяцы стали для Кулаковского переломными в осмыслении и оценке собственных научных и художественных работ, в отношении к собственному творчеству.
Толчок к этому дала попавшаяся на глаза заметка в позапрошлогодних «Сибирских вопросах», в которой говорилось, что «2 марта за № 5942 Министерство народного образования внесло в Государственную думу проект об отпущении Э. К. Пекарскому десяти тысяч рублей на издание «Словаря якутского языка»