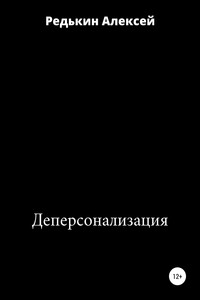Жизнь с нуля | страница 14
В день смерти отца его старшая сестра, тетя Жизель, к полудню явилась за мной – ее даже не пришлось вызывать. Я ждал ее в передней, чинно сидя на чемодане, который отец заботливо уложил для меня накануне. Тетушка утерла набежавшую слезу, крепко сжала меня в объятиях, и мы ближайшим поездом поехали к ней. В предвидении рокового события она заблаговременно приготовила для меня комнату. Мы не присутствовали на похоронах – тетя считала, что я еще не дорос до таких развлечений, а она, со своей стороны, повидала их больше чем достаточно.
Тетя была женщина грустная, хоть и упитанная, что опровергало все известные стереотипы о цветущих, вечно жизнерадостных толстяках. Она одевалась в бежевое, выглядела старше своих лет, ела очень немного и часто вздыхала.
Воспитательницей она была разумной и уравновешенной, если не считать кое-каких устойчивых фобий и суеверий.
Я не мог одеваться в красное – чтобы не пораниться, в черное – чтобы не пришлось носить траур, в зеленое – чтобы случайно не съесть отраву, в коричневое – чтобы не провалиться под землю, в синее – чтобы не утонуть, в белое – чтобы не попасть под лавину, не мог носить галстук – чтобы не умереть на виселице (впрочем, этот запрет я соблюдал с большей готовностью, чем остальные), а также одежду в продольную (смерть за решеткой) и поперечную (гибель в зыбучих песках) полоску, с застежкой-молнией (смерть от удара током), с высоким вязаным воротником (удушение) и отложным воротничком (смерть на гильотине).
Шерстяные свитера я тоже не мог носить – у тети на них была аллергия.
А в остальном я имел право одеваться, как хочу, то есть в нелепые лавсановые брюки (о джинсах нельзя было и заикнуться – они ведь синие), синтетические джемпера с V-образным вырезом и пиджаки на пуговицах: все в серо-бежевых тонах.
Кроме того, мне было категорически запрещено произносить слово «февраль», ибо на этот роковой месяц приходился день моего рождения, а также все остальные слова, начинающиеся на «фев». Правда, поскольку я не знал (и до сих пор не знаю) ни одного слова на «фев», запрета я ни разу не нарушил. После января на нашем календаре наступал безымянный месяц, который мы обозначали так называемыми «воздушными кавычками», а за ним наступал «ну наконец-то март!», ибо в устах тетушки слову «март» всегда предшествовало восклицание «ну наконец-то!», произносимое с безмерным облегчением; при этом она выразительно глядела на меня, а я каждый раз задумывался о своей роковой участи, хотя мы оба знали, что в ближайшие два десятка лет мне ничто не угрожает.