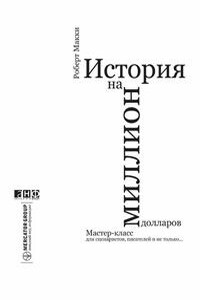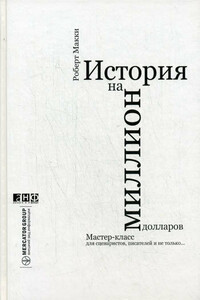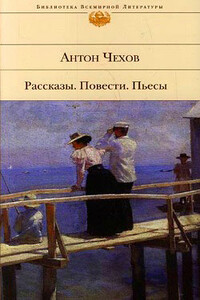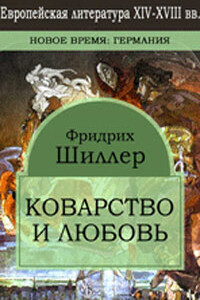Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов | страница 40
Мы любим истории не только потому, что они отражают окружающую действительность, но и потому, что они проясняют внутреннюю жизнь. Одно из величайших удовольствий — самозабвенно вглядываться в зеркало вымысла. Диалог показывает нам, как мы лжем другим, как мы лжем сами себе, как любим, как умоляем, как ссоримся, как видим мир. Диалог учит нас, чт`о можно или нужно сказать в самые трудные или в самые счастливые минуты жизни.
Диалог на сцене
Сцена — место символическое. С того незапамятного дня, когда много тысяч лет назад первый в мире актер разыграл сцену перед свои племенем, его зрители интуитивно поняли: то, что было сказано и сделано, значит гораздо больше, чем просто слова и жесты[20].
Сцена выставляет на всеобщее обозрение искусственность искусства. В театре актер разыгрывает вымышленных людей в присутствии людей живых, настоящих; все дышат одним и тем же воздухом, и все делают вид, что эта неправда — все-таки правда. Садясь в кресло, человек, пришедший в театр, вступает в сделку с драматургом: последний может обратить сценическое пространство в любой мир, какой он только может представить, наполнить его символикой значений, которые он хочет выразить; публика, со своей стороны, согласна придержать свою недоверчивость и воспринимать героев так, как будто они прямо перед ней проживают свои жизни.
Есть ли границы условному «как будто»? Пожалуй, что нет. С появлением больше века назад дадаистов публика привыкла к самым необычным приемам, которыми полны пьесы сюрреалистов, среди которых назову произведение Андре Бретона «Как вам угодно» (1920), абсурдистскую антипьесу Эжена Ионеско «Лысая певица» (1950), концептуальный мюзикл Сондхайма и Ферта «Компания» (1970), состоящий из разрозненных пьес, и буквально сотни авангардных пьес, которые каждый август представляют на Эдинбургском театральном фестивале.
Сделка на условии «как будто», заключенная между автором и публикой, дает драматургу право писать диалоги столь высокие и столь глубокие, каких ни одно человеческое существо не вело и не ведет в реальной жизни. Сначала основоположники драмы, древние греки, потом Шекспир, Ибсен, О’Нил и, наконец, наши современники Джез Баттеруорт, Марк О’Роув, Ричард Марш прибегают к языку воображения и стихотворным ритмам, чтобы усилить диалог мощью поэзии. И публика слушает.
Более того — сцена способствует постоянному развитию языка и изобретению в нем нового. Когда Шекспир не мог подыскать нужного слова, он его просто придумывал: