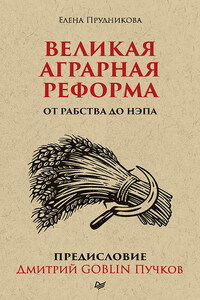Под Андреевским и Красным флагом. Русский флот в Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях. 1914–1918 гг. | страница 34
Впечатление от этих убийств было особенно сильным, поскольку число их жертв было сопоставимо с потерями офицерского корпуса флота за всю Первую мировую войну, которые составляли к 1 января 1917 г. 94 офицера убитыми, 13 пленными. Современный историк Ф. К. Саберов точно установил количество офицеров – жертв самосудов на Балтике в феврале-марте 1917 г.: их было 64.
При детальном анализе чинов и служебного положения жертв самосудов прослеживаются определенные закономерности. Наибольшую ненависть матросов вызывали высокопоставленные начальники из числа строевых офицеров, в какой-то степени генералы и адмиралы вообще. Чуть меньший удар пришелся на офицеров по адмиралтейству. Офицеры других корпусов пострадали в минимальной степени. Это наблюдение лишний раз подтверждает, что разницу в положении на флоте строевых офицеров и, скажем, инженеров-механиков матросы хорошо чувствовали. Очевидно, что с инженерами-механиками у матросов гораздо реже возникали конфликты, чем со строевыми офицерами. Что касается офицеров по адмиралтейству, то они хоть и были ближе к матросам по своему происхождению, но механизм отношений был другой. Матросов, выслужившихся в офицеры, остальные матросы называли «шкурами» – имелись в виду «продажные шкуры», продавшиеся за офицерские погоны и преследующие простого моряка. Кроме того, офицеры по адмиралтейству назначались на непрестижные должности в дисциплинарных учреждениях (гауптвахтах и тюрьмах) и на должности строевых начальников в учебных и береговых частях, куда зачастую списывали провинившихся матросов и где поддерживался суровый дисциплинарный режим. Все это не могло не создавать множество конфликтных ситуаций между офицерами по адмиралтейству и матросами, а эти конфликты привели к самосудам в 1917 г. Несомненно, в самосудах было много случайного, но определенная логика в них все же просматривается.
В эмигрантской мемуаристике возникло два течения по отношению к матросским самосудам. Одни пытались обвинить матросов во всех грехах, а другие – обелить их, приписывая убийства неким людям, переодетым в матросскую форму. Несомненно, вторая версия не выдерживает ни малейшей критики. В то же время яркие подробности жестоких расправ над офицерами исходят либо от лиц, слышавших об этом от других, либо от тех, кто хоть и присутствовал в Кронштадте или Гельсингфорсе в те дни, но также не был непосредственным очевидцем самосудов. Слухи невероятно преувеличили и разукрасили леденящими душу подробностями эпизоды расправ над офицерами. К сожалению, эти вымыслы пустили глубокие корни в современном российском кинематографе и в общественном сознании.