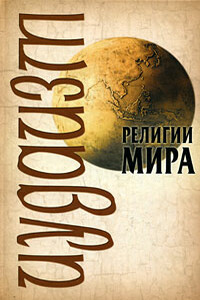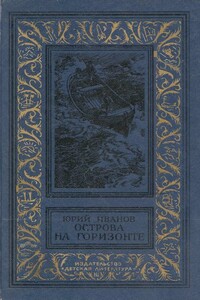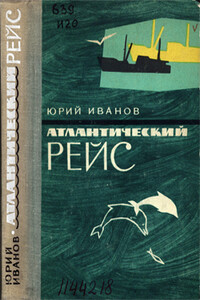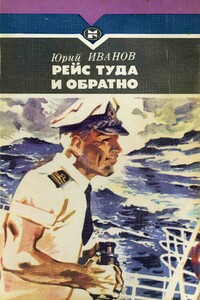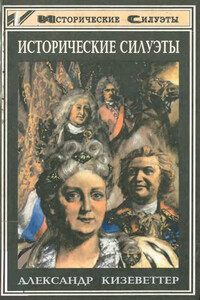Пятая версия | страница 28
Янтарик спас меня! Беру в руки один янтарь, другой. Гляжу через увеличительное стекло на просвет на пылающий в камине огонь, нет ли внутри мушки или жучка? Мы с Эдуардом собираем «инклюзы», вкрапления всяких букашек и козявок в эту окаменевшую смолу. Вот крошечный муравейник. Будто живой. Будто все еще бежит. Мой земляк, кенигсбержец, великий философ Иммануил Кант, фантазировал, мол, если бы суметь, не повышая температуры, расплавить янтарь, то букашки, которым по сорок миллионов лет, ожили бы и, выбравшись из золотистой жижи, побежали бы по своим делам!
Когда-то вот так же, как и мы с Эдуардом, тут, на Куршской косе, древние ее обитатели, курши, собирали это удивительное творение Природы, янтарь. Так вот, лишь только задуют «янтарные ветры», нужно спешить на берег моря. Это какие-то особые, странные ветры. Они не вообще дуют со стороны моря, а как бы продувают его прибрежную часть, взбаламучивая воду метрах в ста от берега. Вода крутится, бурлит, перемешивается, и возникает не поверхностная, а глубинная волна, нижним своим краем она как бы пропахивает дно моря, выгребает из песка «янтарные жилы», упавший в море, сгнивший, ушедший в песок древостой. Ведь именно у подножий гигантских деревьев когда-то и скапливалась обильная смола, затвердевшая потом и превратившаяся в янтарь.
Вот так его и собирали тут курши и пруссы и сто, и двести, и пятьсот, и тысячу лет назад. И от берегов Балтики, моря, у которого еще и названия-то не было, море было просто «морем», янтарь отправлялся в путешествие по всему континенту. Уже в начале I века до нашей эры он появился во многих европейских краях, этот «осколок солнца», «луч Фаэтона», «теплый камень», сулящий людям здоровье и счастье. Нерон любил этот камень и отправлял своих людей через всю опасную для путешественников Европу в северные земли, на берег таинственного Туманного моря, ведь только тут он, янтарь, «рождался» в соленой воде. И даже воду эту привозили в Италию и Грецию в надежде, что в ней, налитой в закупоренные бочки, «родится» золотистый, таящий в себе необыкновенную живительную силу камень! Древние не ошибались. В бочках ничего не возникало, но они были правы в другом: 90 процентов всех залежей янтаря находятся действительно лишь на берегах Самландии, Земландского полуострова, омываемого водами туманного Балтийского моря.
В XIII веке на этих берегах появились «железные» люди на всхрапывающих «железных» конях. То были «кшижаки», как их называли поляки, рыцари воинственного, под сенью черного креста, несущего в восточные варварские земли «святую веру», немецкого Тевтонского ордена. Получив «буллу», право нести эту веру язычникам, от папы римского, они жестоко, упорно, неукротимо, сокрушая сопротивление прибалтийских племен, двигались вдоль Балтийского моря на северо-восток, оставляя позади себя укрепленные поселения, воздвигнутые руками пленных пруссов, сембов и куршей из огромных валунов неприступные для покоренных племен замки. Один из них, самый северный в этих прибалтийских землях, замок «Пилкопен», стоял во-он там, на той дюне, что виднеется в запотевшее окно нашего дома. Рыцари не только оберегали эту землю от проникновения в глубь захваченных земель литовцев и сембов, но и зорко следили, чтобы местное население не расхищало «золото Балтики», янтарь. Чуть в стороне, по преданию, вот на той дюне, возвышались виселицы. И каждой литовец, курш, да и немец, кто добыл в море кусок янтаря и не сдал его в замок, мог оказаться на «Дюне Мертвецов». Виселицы не пустовали, вот было пищи для воронья! Может, потому-то их тут так много и развелось? О, это «золото Балтики»! Сколько голов полетело с плеч за него! Какие порой тут крики и стоны раздавались, когда во дворе замка пороли ребятишек, утаивших от тевтонов кусочек прозрачного золотистого камешка.