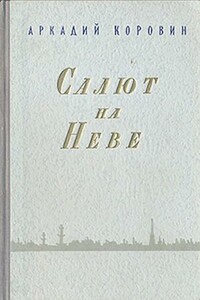Горькие туманы Атлантики | страница 64
До чего же приелась обстановка каюты! И этот стол с различными графиками над ним, и огромный, слоноподобный судовой телефон, и графин с водой в штормовом гнезде, чтоб не разбился при качке, и мерно, едва слышно стрекочущие часы, стрелки которых оббегали черт его знает какой уже круг с тех пор, как суда отстаиваются в Исландии. Лухманов помнил каждую заклепку на подволоке и каждый изгиб узора на переборках, карнизы которых были расписаны под ценные породы дерева. Только портрет Ольги да коврик над койкой, вышитый ее же руками, не вызывали отвращения. Люди становятся моряками ради движения, простора и перемены мест; когда же судно приковано намертво к якорю, его помещения превращаются в кельи монахов.
Теперь, когда верилось, что приход эскадры и завтрашнее совещание капитанов означают близкий конец стоянки, ожидание стало невыносимо. Время как будто замерло — до утра, до нового дня была еще целая вечность. Неужели он скоро увидит Ольгу? Боялся надеяться: слишком горьким будет разочарование, если надежды не оправдаются.
Но не думать об Ольге не мог. Надежда жила подспудно, помимо его желания и осторожных предостережений разума. Чувства, которые так долго он в себе заглушал, убегая от них то в работу, то в судовые заботы, то просто в отвлеченные мысли, всколыхнулись внезапно и властвовали над ним теперь безраздельно, не милуя и не щадя. Ольгу вспоминал он всем своим существом — глазами, руками, слухом, и в какие-то мгновения ему опять начинало чудиться, будто ощущает в каюте запах ее волос, улавливает взволнованный горячечный шепот, чувствует радостную близость Ольгиных губ…
Почему всегда воспевают лишь первую пору любви? Ведь истинная любовь начинается после того, как двое станут женою и мужем. Тогда они делят поровну не только радужные мечты, но и печали, и тяготы, и близость их становится подлинной, необходимой, как близость моря и корабля. В их отношениях, в чувствах возникает столько доверчивости, отзывчивости, таинственной красоты, которых порою хватило бы на все человечество! Но все это — тайна двоих, а тайны не принято воспевать. И потому представление многих о любви ограничено прелюдией к ней: первыми встречами, вздохами, признаниями и клятвами. В крайнем случае, робкими ласками… А любовь настоящая — это долгая жизнь: не только в семнадцать, но и в тридцать, и в пятьдесят, до самой последней березки… И как всякая жизнь, она не нуждается ни в подтверждениях, ни в громких словах, ни в ханжеской молчаливой стыдливости.