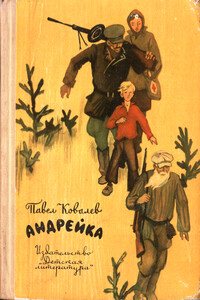Горькие туманы Атлантики | страница 27
— Шел бы ты, хлопец, со своею бандурой куда подальше…
— Это мандолина. На бандуре пусть ваша теща играет, — съязвил рулевой. Моряки хихикнули. Только тогда боцман, видимо, понял, что сплоховал, не заметив, как обыграл в злополучной фразе собственную фамилию. А Семячкин обиженно добавил: — Где ни приткнусь на судне — всюду просят подальше… Что же мне, с инструментом на дно морское спускаться?
— А ты залезь в дымовую трубу и играй хоть до понедельника, — не остался в долгу боцман. Но у него самого дела шли, видать, не блестяще, потому что он тут же возмущенно заканючил: — Э-э, куда ж вы мою королеву берете?
— Не зевайте, — спокойно промолвил доктор.
— Так я ж с вами как играю? В открытую… А вы, как тот соловей-разбойник, из-за угла: всякие там эндшпили-брашпили.
— Ладно, ставлю фигуру обратно, — примирительно согласился доктор. — На обдумывание хода — минута, засекаю по секундомеру.
— Ну да! — все еще возмущался Бандура. — На таких кабальных условиях даже гроссмейстеры не играют! — Внезапно голос его злорадно повеселел: — Шах! Сейчас мы вас того… В таком положении, доктор, даже Ботвинник сдается!
— А это мы сейчас уточним… — озабоченно протянул противник.
Семячкин продолжал бренчать. Иногда ему удавалось несколько нот сложить в обрывок мелодии, тогда в этих звуках проскальзывала такая раздумчивая грусть, что Лухманов на мгновение замирал. В мелодии, уловленной рулевым, не было ни смысла, ни содержания, ни каких-либо чувств, но чувства, очевидно, таились в самом Лухманове, и даже случайные звуки вдруг пробуждали их, обнажали. Он и сам не назвал бы, какие воспоминания, отрывочные и быстрые, возникали в нем с жалостливым звучанием струн. То ли видения обезлюдевших, как-то враз одичавших осенних полей, промытых родниковой прозрачностью воздуха; то ли тишина городка, засыпавшего в ранних сумерках, — городка, где прошло его детство. Они, эти воспоминания, мелькали стремительно, ускользающе, и он не мог ни остановить их, ни задержать, чтобы всмотреться, опознать, припомнить былые ощущения, связанные с ними. Но всякий раз в такие мгновения Лухманов чувствовал щемящую боль. Может быть, потому, что нескладные, наивные кусочки мелодии, оживавшей под пальцами рулевого, были не с этих чужих берегов, окружавших фиорд, а с той далекой земли, по которой денно и нощно тосковал экипаж «Кузбасса».
И конечно же, прежде всего Лухманову вспоминалась Ольга. Он видел рядом ее губы, затуманенные любовью глаза и стыдливый отворот лица; в тесной каюте улавливал, чудилось, запах ее волос, слышал ее бессвязно-горячечный шепот; в его руках, истосковавшихся по ласке, почти физически ощутимо воскресала нежность Ольгиной кожи… Моряки, как никто другой, знают мучительность подобных воспоминаний. В долгие месяцы разлуки они наплывают как наваждение, от них невозможно ни уберечься, ни спрятаться, ни убежать — их можно лишь заглушить непосильной работой, как глушат приступы тропической лихорадки тройною дозой хинина. Но и тогда, когда голова протрезвеет, несправедливо-невыносимой становится мысль, что время будто остановилось, как бы ты ни скрипел зубами, что впереди до заветной встречи — еще многие недели пути, бесконечное количество вахт и тысячи миль смертельной опасности.