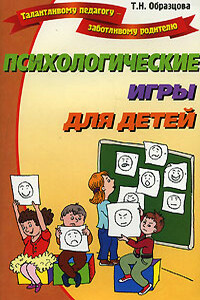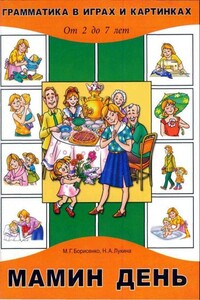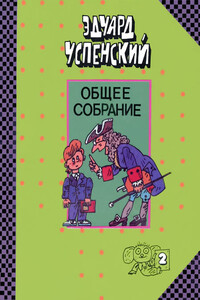История Новосибирской области | страница 30
И стали на сопке драть. Пишка кричит:
— Крепче! Крепче!
Иван мужик был дряхленький; не выдержал — помер…»
В 1766 г. при Сузунском заводе открыли монетный двор, где из серебристой меди чеканили особую «сибирскую» монету — с изображением сибирского герба (два соболя). Новая монета предназначалась только для Сибири, но она использовалась и в торговле с Китаем и Средней Азией. С 1781 г. в Сузуне начали чеканить монету общероссийского образца.
Сузунский монетный двор был окружен высокими стенами, вход на его территорию охраняли солдаты. Здесь помещались плавильня, кузница, слесарный и токарный цеха, «монетное строение», где из заготовок чеканили деньги. Монетный двор был крупной самостоятельной мануфактурой.
В отличие от центральных районов страны на территории нашей области не отмечено крестьянских войн. Даже в годы восстания, возглавленного Е. И. Пугачевым, борьба сибирских крестьян и мастеровых сводилась к побегам, отказу от выполнения повинностей, подаче челобитных. Менее жестокие формы эксплуатации местного населения не позволяли классовому протесту достигнуть здесь той степени остроты, которая была характерна для крепостной европейской России.
И все же волнения нередко сопровождались открытыми столкновениями с властями. В 1759 г., например, крестьяне Чаусского ведомства Петр Бурматов (из д. Луговой) и Федор Барабанщиков (из села Кривощекова) возглавили сопротивление казакам, присланным для препровождения крестьян на работу на казенных судах.
Часто в таких случаях крестьяне бежали от казаков, как доносили посланные, «неведомо куда». Беглецы скрывались в верховьях Катуни[48] и Бухтармы. Убегали туда от подневольного труда и мастеровые Сузунского завода.
Под влиянием старообрядческих проповедников отчаявшиеся крестьяне иногда предавали себя самосожжению. (Вспомните, когда и в связи с чем на Руси возникло старообрядчество — п. 5 из § 35 учебника «История СССР» для 7 класса). В 1756 г. в знак протеста против феодальной эксплуатации сожгли себя жители нескольких деревень Чаусского ведомства.
Положение чаусских крестьян, и без того страдавших от тяжелых податей и повинностей, еще более ухудшилось от притеснений священников и томских купцов Басова и Титова. Местные жители «пришли в крайнее разорение и нищету». В это время появились здесь «расколоучители» — сын тарского казачьего полковника Федор Немчинов и кузнецкий крестьянин Семен Шадрин. Их призывы к «бунту» упали на хорошо подготовленную почву.