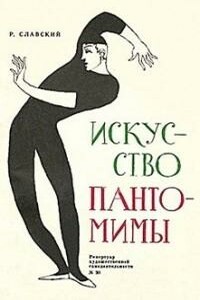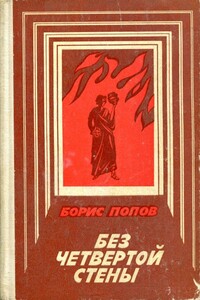Не только о театре | страница 39
Я не хочу быть понятым так, будто я призываю к театру ложноклассической абстракции. Нет, ни шагу без быта; но этот быт должен быть обобщен и воплощен в художественные образы.
Обратимся к Шекспиру. Если речь идет о «Ромео и Джульетте», то свой собственный бытовой опыт может дать кое-что для раскрытия психологии персонажей, для построения образов действующих лиц, но для построения спектакля он дать ничего не может. И тогда при отсутствии правильного метода начинается худшее, что может быть: поскольку личные бытовые впечатления здесь неуместны, в помощь режиссеру приходят впечатления от прошлых или аналогичных спектаклей этой пьесы; и если эти спектакли были не абсолютно «гениальны», то все, что было в них не абсолютно «гениальным», переходит дальше, в последующий спектакль. Так вырабатывается тот штамп, те дурные привычки в обращении с классиками, которые в результате ограничивают творческую мысль режиссера в ее полете.
И вот для того, чтобы избежать этой опасности, необходимо найти некий метод режиссерского мышления, некую последовательность в решении режиссерских задач, режиссерского замысла спектакля. Вот такой метод в дискуссионном порядке мне и хочется предложить.
Режиссер, впитывая в себя произведение, которое собирается ставить, должен воспринять все мысли пьесы — не одну главную мысль, но впитать в себя все, что можно из пьесы получить, все ее образы, все ее оттенки.
Первое условие при этом: читая «Ромео и Джульетту», представить себе идеальную Джульетту, а не думать о той ведущей актрисе, которая будет играть Джульетту; не упрощать сложной структуры пьесы для своего более простого понимания; не допускать помогающих восприятию пьесы ассоциаций с виденными спектаклями; оградить себя от «практики». Даже молодой режиссер легко может оказаться очень одаренным практиком; он сразу сообразит, кто и как будет играть, как ставить, будет ли это спектакль параллельный или проходной.
Иногда пьеса дает небывалые задания, и тогда режиссер должен это радостно отмечать — не досадливо, а именно радостно. В «Саламейском алькальде» Кальдерона первая сцена написана так: отряд солдат идет и одновременно разговаривает. Здесь большой соблазн решить, что «на ходу» сыграть нельзя и где следует сыграть «остановку». Но надо отметать этот гнусный практицизм, который все упрощает, все облегчает, все сводит к уже найденным и существующим приемам. Нельзя, столкнувшись с огромным монологом, решить, что он будет сокращен («Кто же это будет слушать?»); надо воспринять его именно как огромный монолог (если это достойный материал) и найти для него решение. Не приспособляться раньше времени, хотя имеется и такой тип режиссера, единственной и отличительной чертой которого является приспособляемость.