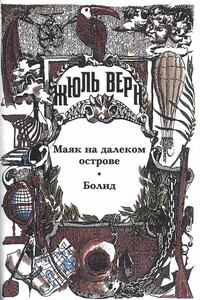Переселенцы и новые места. Путевые заметки. | страница 84
— Извините-с...
— Молчи! не место! Не прельщать пришли, а с просьбой горькой... Ну... Да, так про мать я. Поверите-ли, день плачет, ночь плачет. У меня сердце горит, а как-же ей-то, матери! Одна дочка пошла, другая... Учить — учит, а остановить — так уж так смирна, так смирна. Попробует, а мы фыркнем, — и молчит, плачет... Теперь, сестренки — маленькие, одной двенадцать, другой девять. Господи! По-верите-ли, третьего дня я возвратилась часов в пять утром домой... с пиру с моего веселого. Дома уж встают. Стукнула дверью, — младшая как вскочит с просонья — и ну одеваться. «Что ты, шалая?!» А она: кто, говорит, пришел? «Фрося пришла». А я, говорит, думала, офицеры за мной приехали...
Фрося умолкла. Глаза были полны слез. Лицо побледнело и осунулось, верхняя губа с усилием плотно сомкнулась с нижней. — И она упала на колени и поклонилась в ноги. Опустилась она и поклонилась совсем по-мужицки, по-бабьи, упираясь кулаками в землю и дотронувшись лбом до полу. Лукерья стояла, покраснев до слез и растерянно ковыряя край стола. Афросинья поднялась и гневно взглянула на сестру.
— А вы не можете поклониться, Лукерья Ивановна! Гордость! Чем гордитесь-то!
Лукерья молчала, краснея и теряясь все больше и больше.
— Дура! Простите ее, господин переселенный. Надоели мы вам, так я уж кончу поскорей. Отправьте вы мать с сестренками на старину... Вы не думайте, что мы богатые. Такие богатыми не бывают. Одежда так и горит, так и горит, в аду в этом. Редко-редко когда из долга выйдешь... Помогите, отправьте! На старине родня есть, девченок разберут, а мать дядя взять обещается, пишет. В крестьянстве лучше. Замуж выйдут. А тут, — за нами пойдут. Ротонды-то эти — Афросинья указала на себя и сестру, — они грязные... Отправьте! — и она опять поклонилась в землю...
Мор 1892 года
И горькая-же это вещь, человеческая жизнь! Забота за заботой, тревога за тревогой, а иной раз и самый настоящий ужас. В прошлом году об эту пору «ветром веяло» наказание Господне в образе голода; в этом году наказание было страшнее, — мор. Голод тоже наводил ужас, но он не был непреодолим, оставлял луч надежды. «Батюшка нас прокормит», говорили мне мужики, от Оренбурга до Кустоная, и только об одном тужили: «Нас-то прокормит, не оставит, а вот скотинке вовсе беда; ее кормить, чай, не возьмет: где, чай, сена напастись»... Холера была неизмеримо страшней своей неминучестыо и непреодолимостью ни для чьих забот и ни для каких усилий. Голод поразил бедняков, бездомных, жителей захолустья, куда трудно было провести хлеб, — мор не щадил никого. И в разгар болезни населением овладевал ужас, который выражался или в тупой покорности, или в буйном отчаянии. Астрахань, Саратов, Хвалынск доходили до бешенства, бунта и убийств. У нас в Оренбурге, на беззащитных новых местах был ужас тихий: мы помертвели. Вот как надвигался на нас этот ужас.