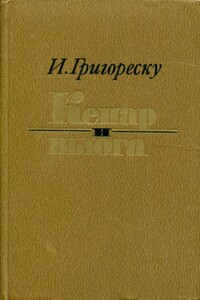Восемнадцать дней | страница 10
Мазок, еще один, еще и еще, и перед ним проходит вереница вселенных, каждая со своими особенностями, проявления которых он разгадывает, распознает, разоблачает.
Бегут часы, мазки и вселенные сменяют друг друга, а Штефэнеску, поглощенный своим делом, упорный и неутомимый, дышит все тяжелее, склоняется все ниже над микроскопом. Здесь ведется великая битва между человеком и миром, который существует за счет здоровья и жизни людей. Среди миллионов копошащихся микроорганизмов надо отыскать именно те, которые подтачивают и губят человеческую жизнь.
К трем часам лаборантка разводит руками, давая понять, что работы больше нет. Все посевы на сегодняшний день исследованы. Те, которые еще не завершили своего безудержного цветения, останутся на завтра. «Наш доктор готов проводить здесь все ночи, до рассвета, только была бы работа. Он забывает, что любое живое существо должно иногда отдыхать», — думает лаборантка.
— Все? — спрашивает Павел с улыбкой, и это слово звучит как хрип, вырвавшийся из его усталой груди.
Лаборантки снимают халаты, доктор моет руки. Вдруг по коридору гремят тяжелые шаги, дверь резко распахивается, будто ее сорвали с петель, и лаборантки замирают — у одной в руках халат, у другой — берет. В комнату врывается доктор Добре, держа в огромной руке пробирку. Лицо Штефэнеску осветилось теплой улыбкой.
— Павеликэ, милый, сделай-ка мне срочно анализ этой легочной жидкости. С ума меня сведет этот актер. Будто бес в него вселился, ничего его не берет, паршивца.
Подавив внутреннее отчаяние, лаборантки покорно надевают халаты. Павел, широко улыбаясь, берет пробирку и, сгорбленный, измученный, тащится к столу.
— Ну и скотина! Сколько стрептомицина на него извели, — ворчит Добре.
Лаборантки затряслись от негодования. Они знают этого юного актера, — раньше он сам приходил в лабораторию и обещал им контрамарки в театр, когда снова начнет играть. Изящный, с высоким лбом, весь в движении, очень вежливый, он горел желанием скорее выписаться из больницы и вновь оказаться на сцене. Иногда он читал девушкам стихи и бросал в их сторону томные взгляды, так и не уяснив себе, какая из них ему больше нравится. И вот Добре обзывает его скотиной. Разве он виноват, бедняга, что не выздоравливает?
Один лишь Штефэнеску будто не замечает суровости слов доктора Добре, хотя он их прекрасно расслышал — ведь тот гаркнул, будто отдавал военную команду. Он доверчиво улыбается ему, отлично понимая, что Добре мечтает сейчас лишь об одном — вылечить эту «скотину». Теперь у микроскопа двое: маленький, щуплый Павел, с его хриплым дыханием, терзающим разодранные в клочья легкие, и нахмуренный Добре, который, широко расставив ноги, как опоры Эйфелевой башни, держит огромную красную ручищу на хрупком плече Павла.