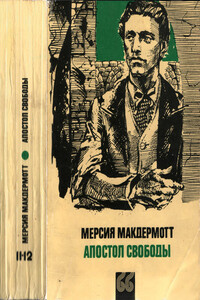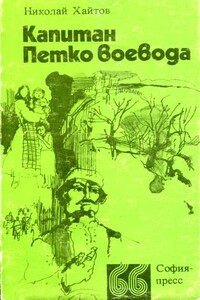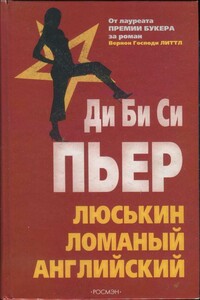Дурман | страница 45
Тошка зашлась плачем — ее словно вывернуло наизнанку.
— Ори, ори! Ори больше, пусть весь околоток слышит! — накинулась на нее старуха. — Иди в дом, нечего тебе тут делать… Сама приберу…
Тошка пошла к дому. Ей хотелось без оглядки бежать отсюда, спрятаться, но не было сил: она еле волочила ноги. Да и куда ей было бежать, и где спрятаться? И зачем бежать? Она ничего не понимала. Перед глазами у нее поднималась страшная муть, мгла. Первая мысль о Пете. Ей нужно было его видеть, прижать к груди, но какая-то неведомая сила вела ее совсем в другую сторону. Да и ребенок куда-то пропал, видно, заигрался за сараем.
Вдруг перед ней встал колодец, холодный и бездонный, с большим светлым глазом посередине. Потом веревка, она висит за дверью в кухне, та самая веревка, что потянула Минчо в могилу, когда он пытался свалить подкопанное дерево.
Она бросилась в чулан, упала на пол, как подстреленная, и завыла в голос. Постепенно тяжелый ком в груди отпустил, отмяк от слез. Темно и глухо было в чулане, никому-то она не нужна, никому до нее нет дела! Плакала она долго. И когда ее оставили последние силы, лишь только стоны исторгала ее измученная грудь! Так жалобно мяучат вышвырнутые за дверь котята. „Минчо, родной, сердце мое, на кого ты меня оставил, почему оставил? Ведь знал же ты, какая она… Ох, господи, заела она меня, душу вынула… Куда мне идти, бежать куда, кому жаловаться, перед кем плакать? Одна я, бедная сиротинка, век свой черный куковать мне одной-одинешенькой…“
Так причитала она еле слышно, хриплым голосом, захлебываясь слезами, которые текли и текли, струились неиссякаемым потоком и словно омывали ее исстрадавшуюся душу, как чистый родник омывает пылающее лицо. Горький комок в горле постепенно растаял, как ледышка в тихом струящемся потоке. И вместе с тем постепенно рождалась в ней спокойная мысль, ясная и решительная мысль о смерти. Здесь, на этой земле, для нее нет жизни, нет радости, нет светлого дня. Пусть живут они, свекровь и деверь, пусть радуются. Так было и с Леной Милчевой. Но и свекровь не ушла от людского суда. Где бы ни появилась, чуть в глаза ей не тыкали: „Уходила до смерти, гадюка, сноху-красавицу“.
11
Когда Иван вернулся на гумно, мать просеивала последние остатки кукурузы, сопя и шмыгая носом. Иван подошел к ней, встал рядом, чуть не навытяжку, как солдат перед старшиной. Он знал: приход Илии и их разговор наедине не обойдется ему даром. Он стоял перед матерью, растерянно и виновато мигая. Но старая занималась своим решетом и словно не замечала его присутствия.