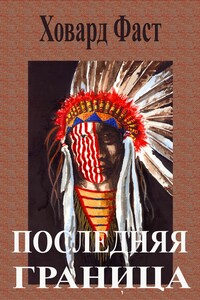Христос в Куэрнаваке | страница 3
Испания жила в его памяти точно далекий сон, но, как во сне, образ ее туманился и расплывался; и мало-помалу Серенте свыкся и примирился с тем, что он здесь навсегда. В потаенном уголке души он бережно хранил заветное «Придет день, и я вернусь», но этот день не был обозначен на листках календаря.
Его амбулатория помещалась в кирпичном оштукатуренном домике тотчас же за рынком. Из темной, закопченной, обветшалой прихожей вела лестница на площадку второго этажа, заменявшую собой приемную. Здесь стояла длинная скамья и два стула, и стопка растрепанных американских и испанских журналов помогала вам ненадолго уединиться со своей бедой.
Я пришел сюда около трех часов пополудни. Какой-то человек сидел, пригорюнившись, в уголке приемной, и в этом человеке я узнал хозяина ослика, индейца с лицом Христа.
На этот раз я мог внимательно и подробно разглядеть его уже не в колдовском освещении утреннего солнца, и я убедился, что наше первое впечатление было верным: передо мной в старой, поношенной одежде индейца-труженика сидел живой Иисус Христос.
Когда проживешь некоторое время в Мексике, скорбное выражение лица, так часто встречающееся у мексиканцев, начинает казаться чем-то обычным, таким же обычным, каким оно является для них самих; однако некоторые утверждают, что нигде на свете не встретишь таких красивых лиц, как темные, изрезанные морщинами лица индейских обитателей этой злополучной страны, а потому и скорбь, написанная на этих лицах, — совсем особая скорбь. Она ощущается как что-то наносное, противоестественное, чуждое душе народа, созданного для солнечной, счастливой жизни, и кажется непостижимым, что отпечаток скорби может быть так глубок. Глубок был он и на этом лице, и мне так захотелось проникнуть в его тайну, что я обратился к индейцу и, безбожно коверкая испанский язык, спросил, ожидает ли он тоже приема у врача.
— Нет, я жду дочку, — ответил он и объяснил, что дочь его сейчас в кабинете вместе с матерью и что она очень больна. В нем чувствовалась та почти неправдоподобная кротость, которая свойственна многим простым людям Мексики, и он готов был доверчиво открыть свое сердце всякому, кто хоть с грехом пополам мог объясняться на его языке. Голос у него был звучный, приятный, — ласковый голос, и даже если бы он не сказал мне сразу, что его дочурка ему дороже всего на свете, не трудно было распознать в нем человека, который любит детей. Девочке двенадцатый год, рассказывал он, других детей у них с женой нет, и в этом одновременно и счастье их и несчастье. Несчастье потому, что у кого нет сына того ждет печальная старость, особенно, если он — мелкий земледелец, все имущество которого составляет бревенчатая хижина, клочок земли да несколько коз и только усердным трудом удается извлечь из всего этого хоть маленький доход; но все-таки это и счастье тоже, потому что можно сосредоточить на единственной дочке всю свою любовь, а когда ребенок видит много любви и ласки, объяснял он мне, он растет, как одинокий цветок в плодородной долине, красивым и полным сил.