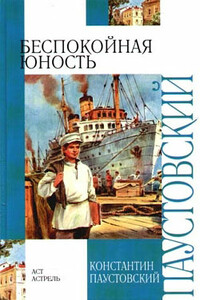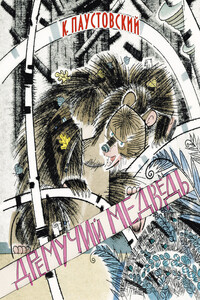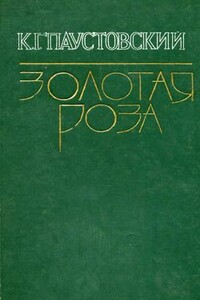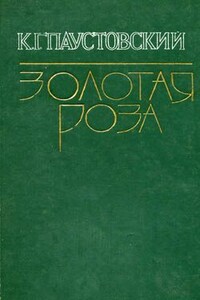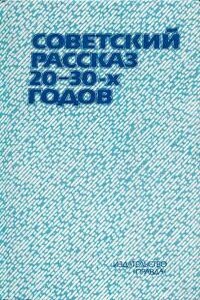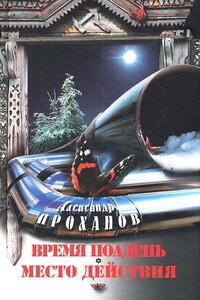Бросок на юг | страница 101
Почти сорок лет спустя я увидел самую гениальную, нежную и ранящую сердце своей божественной женственностью скульптурную голову царицы Нефертити. Трудно было удержаться, чтобы не написать о ней тотчас же целую восторженную главу.
Но тогда я был готов променять ропот морского прибоя на писк воды, что сочится через гнилые доски мельничной плотины где-нибудь под Костромой, сочится и брызжет на высокие папоротники.
Чем дальше, тем тоска по Северу, по родине делалась болезненнее и безнадежнее. Потому что денег у меня было в обрез, как говорится, «на прожитие», и нужно было еще терпеливо накопить их на билет до Москвы. А это были немалые деньги по тем временам.
Тревога и саднящая тоска все усиливались, и вдруг я понял, что происходит это оттого, что мне не с кем даже поговорить о Севере, не с кем вспомнить о нем.
Я был окружен южанами. Все мои батумские знакомые были южные люди. Севернее Одессы никто из них, кроме Фраермана, не жил. Говорить с ними о простодушном и милом пейзаже Средней России было бесполезно. Они его не знали и представляли только по тем тускловатым литографиям картин Левитана, Нестерова, Остроухова или Жуковского, какие пылились в толстых старых альбомах для открыток в писчебумажных магазинах.
Тогда тема наших бесконечных и зачастую ночных бесед с Фраерманом переменилась. Мы уже меньше говорили о стихах, но очень много – о русской природе. Я говорил о Брянских лесах – памяти моего детства, а Фраерман – о лесах Белоруссии.
Я взял у Чачикова томик стихов Языкова. Пожелтевшие тоненькие страницы пахли плесенью и магнолией, чей-то острый, очевидно стариковский, ноготь отчеркнул любимые строфы. Тогда у меня еще не было представления о Языкове, и сгоряча я был поражен им не меньше, чем Пушкиным.
Я выписал из стихотворения «Тригорское» описание летнего зноя и выучил его наизусть.