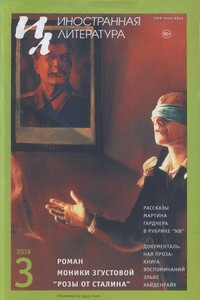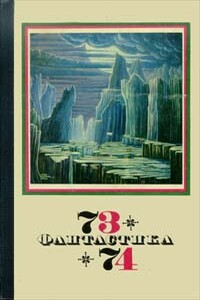История одной дружбы | страница 5
Палестина существовала в воображении Ханта задолго до встречи с чудаком Лиром. Она с детства казалась ему волшебной страной. Но реальная Палестина всегда вступает в конфликт с Палестиной воображаемой. Этот конфликт настолько жесткий, порою жестокий, что люди часто отказываются от воображаемой страны, испытывая чувство тяжелой утраты. Многие вояжеры, отправившиеся вместе с Холманом Хантом, вернулись из Святой земли в состоянии глубокого разочарования.
Каждый христианин переводит историю Христа в систему собственных образов и помещает Младенца в собственные ясли. Прибыв в Палестину, Хант попал не в волшебный край детских грез и средневековой живописи, а в пространство суровых скал и утесов реальной земли.
Любимым его пейзажем стал вид, открывающийся с дороги в Вифлеем. Панорама пестрой долины и бесплодных, безводных Моавских гор, жаркая дорога, ведущая вниз — к Мертвому морю.
Легко понять, почему мистики так часто уходили в эти ужасные горы, дабы обрести истину. Столь полное безразличие к потребностям человека обещает Божественное откровение. Нежелание утолить жажду тела говорит о страстной тяге утолить жажду духовную.
Что же объединило этих столь непохожих друг на друга живописцев на долгие-долгие годы? Как ни странно, общее для обоих желание ответить на вопрос, что такое художественная правда.
Уильям Холман Хант хотел привнести в современное ему искусство дух проповедничества, морально-назидательный смысл, чтобы картина говорила больше, чем на ней изображено. Он насыщал живопись религиозными аллюзиями. Друзья называли Уильяма «великим священником прерафаэлитов». Как и Рёскин, Хант полагал, что правда не просто переносится из жизни в произведение искусства, а осмысляется интеллектом художника, проходит через его душу. Важно не подражать природе, а воспринимать ее духовно. Оригинальность произведения искусства Хант видел не в новизне художественных приемов, а в глубоком постижении самого духа природы. По его мнению, искусство являлось не только выражением личности художника, но и воспроизведением фактов, преображенных воображением.
Лир, напротив, решительно возражал против какого-либо вторжения личности художника в мир картины. Во время первого же посещения Рима он восстал против авторитета Никола Пуссена и Сальватора Розы. Пейзажи Пуссена, способные поднимать зрителя до высоты сознания, рождающего мифы, все эти «психеи римского пейзажа»[15] были совершенно чужды Эдварду Лиру.