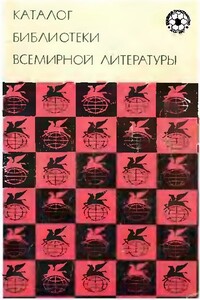Таинство Исповеди. Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога | страница 40
Простил ли Господь?
В православном катехизисе содержится следующее определение таинства Покаяния: «Покаяние есть таинство, в котором исповедующий свои грехи, при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом»[25]. Но, конечно же, эти немногие слова не могут вместить всей глубины таинства Покаяния, раскрыть то значение, которое оно имеет для нас. Некоторые опытные духовники обращают внимание на слова одной из молитв таинства Покаяния: «Сам, Владыко, ослаби, остави, прости…»[26], говоря о том, что человек далеко не всегда имеет силы оставить грех, в котором он исповедуется, и даже не всегда хочет этого. Он может принести свой грех на исповедь, всего лишь сознавая, что поступил против совести. Но в исповеди происходит удивительное: Господь ослабляет действие греха, давая силы расстаться с ним.
Часто люди задаются вопросом: «Как мне узнать, что Господь простил мне грехи? Вдруг Он не простил? Каким образом я пойму это?» Преподобный Варсонофий Великий[27]дает такой ответ: признаком прощения твоих грехов является утрата сочувствия по отношению к ним. Когда человека перестают волновать те страсти, которыми грех был порожден, – это признак внутреннего изменения. Это уже другой человек, не тот, который эти грехи совершал.
Конечно, можно столкнуться и с другим недоумением: «Как же Господь может не простить, ведь Он есть Любовь?» Да, Господь есть Любовь, Господь может простить и прощает абсолютно все. Но что толку, если ты при этом остаешься прежним, таким же, каким был? Ты должен измениться по отношению к Богу: прощение приходит, когда ты отворачиваешься от греха и поворачиваешься к Нему.
Сокровенное изменение души
Наверное, в жизни каждого священника есть немало такого рода примеров: люди годами каются в одних и тех же грехах и, казалось бы, ничего в их жизни не меняется, но проходит время (иногда – долгое время), и ты все-таки начинаешь видеть, что что-то потихоньку, неведомым образом меняться начинает.
Я помню одну девушку, которая часто исповедовалась, при этом она зарабатывала проституцией. Она приходила, каялась в тех грехах, оставить которые не имела сил. До Причастия я ее, естественно, не мог допустить, пытался с ней говорить о ее жизни, о дальнейшей судьбе, но особого успеха это не имело, потому что решимости что-то менять у нее не было. Она не любила ту жизнь, которой жила, скорее, имела место зависимость материального и психологического характера. Но в то же время ее исповедь не была «дежурной» – было видно, что ей больно. И так она каялась, молилась об изменении жизни, не обретая решимости самостоятельно изменить ее. Со временем я стал видеть происходящие в ней перемены: она постепенно воцерковлялась, ее религиозность приобретала более осознанный характер. Нет, у нее не возникало иллюзий о себе, она не оправдывалась тем, что ходит в храм, наоборот, помня, какова ее жизнь, все больше и больше смирялась. Когда я видел ее в последний раз, она начала опекать девочку из неблагополучной семьи. С одной стороны, к этому ее подвиг собственный опыт, потому что о ней самой никто никогда не заботился, с другой стороны – это было проявлением чувства вины. Куда привела ее жизнь, трудно сказать, но мне не раз в связи с ней вспоминался пример из жития одного святого старца.