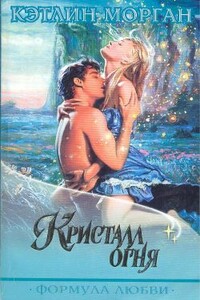Кармен | страница 17
После того, как меня разжаловали в рядовые, я думал, что мне уже ничего не остается больше терпеть, но мне предстояло еще унижение: только что вышел я из тюрьмы, меня поставили на часы, как простого солдата. Вы не можете вообразить, что чувствует человек с душой в подобном случае! Кажется, лучше согласился бы, чтоб меня расстреляли. По крайней мере, тогда идешь вперед своего взвода; чувствуешь, что что-нибудь значишь; все за тебя смотрят.
Меня поставили на часы у дверей дома нашего полковника. Это был молодой, богатый человек, добрый малой, любивший повеселиться. У него была в гостях вся молодежь — офицерство, много статских, были и женщины, кажется, актрисы. А я… мне казалось, весь город собрался в полковнику, чтоб посмотреть на меня. Вот подъезжает карета полковника; его камердинер на запятках. Отворяются дверцы: кто ж, думаете, выходит? Цыганка. Она была разодета в пух, вся в золоте, в лентах. Платье с блестками, голубые башмаки также с блестками, везде цветы и позумент. В руке у ней был тамбурин. За ней вылезли из кареты еще две цыганки, одна молодая, другая старуха; с молодыми всегда бывает старуха, да старик с гитарой, тоже цыган; он играет, они пляшут. Цыганок, вы знаете, часто зовут в общества танцовать ромалис: это их пляска.
Кармен узнала меня, и мы обменялись взглядом. В эту минуту, мне хотелось бы провалиться сквозь землю.
— Agur laguna (здравствуй, товарищ), — сказала она. — А, молодец! ты стоишь на часах, как рекрут.
И не успел я вымолвить слова, она была уже в доме.
Все общество было на дворе и, несмотря на толпу, я сквозь решетку видел почти все, что там делалось[7]. Слышал я кастаньеты, тамбурин, хохот, «браво»; по временам замечал я голову Кармен, когда она плясала с тамбурином. Потом я слышал, как офицеры говорили ей такие вещи, от которых кровь бросалась мне в лицо. Что она отвечала, не знаю. Именно с этого дня, я думаю, начал я любить ее, потому что мне раза три-четыре приходила в голову мысль войти во двор и перебить всех этих повес, говоривших ей нежности. С добрый час продолжалось мое мучение; потом цыганки вышли и отправились домой в карете. Кармен, проходя мимо, сказала мне тихонько: «Земляк, если любишь полакомиться, приходи в Триану, к Лильяс Пастиа». Легкая, как козленок, она прыгнула в карету, кучер ударил по лошакам, и вся эта веселая компания умчалась Бог весть куда.
Нетрудно вам догадаться, что как скоро я сменился с караула, тотчас отправился в Триану, выбрившись и вычистившись, точно на парад. Она была у Лильяс Пастиа — старого цыгана, черного, как мавр; много горожан собиралось к нему есть жареную рыбу, особенно, думаю, с тех пор, как появилась у него Кармен. «Лильяс, — сказала она, увидев меня, — сегодня я не буду здесь. Пойдем, земляк, гулять». Она накинула на себя мантилью, и вот мы на улице. «Кармен, — сказал я, — я должен поблагодарить тебя за подарок, который ты прислала мне в тюрьму. Булку я съел. Пилой отточу я свое копье — и сберегу ее на память о тебе, а деньги — вот они».