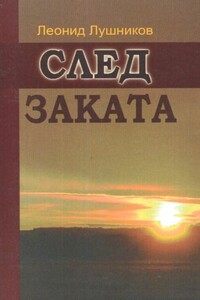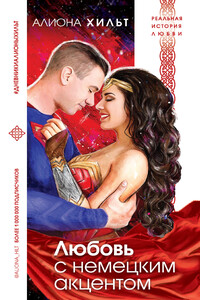Нормальная история | страница 25
Ярость пропитывала советскую жизнь, как слоеный пирог, ее концентрация в каждом социальном слое варьировалась. Ярость клубилась в воздухе кабинетов, заводов, казарм и лагерей, растекалась по страницам газет, плакатов, сочилась с экранов телевизоров. Ярость звенела в ушах коммунистов, дремала в мозгах рабочего класса, пряталась за лицами родных, учителей, начальников, уличных хулиганов, кондукторов, милиционеров и уборщиц, чтобы в нужный момент оранжевым протуберанцем вырваться на свободу.
Столкновение с яростью начиналось с раннего детства.
Грубость в общении с детьми считалась социалистической нормой. “Не надо сюсюкать с ребенком!” – наставляли советские воспитательницы молодых мам. Окрик и подзатыльник неизменно висели над детскими головами. Школьные учителя от ярости впадали в истерики, топали ногами, захлебывались слюной. Дома было не лучше.
– Мне опять краснеть за тебя на родительском собрании?! – пучил глаза побагровевший отец.
Советский ребенок был всегда виноват. Нам всегда приходилось оправдываться.
Но – ярость, ярость. Эта коварная оранжевая змея, играющая с нами, жалящая из-за картонных социалистических декораций мнимого благополучия! О, как она была хитра и изобретательна. Память навсегда сохранила эти стремительные змеиные броски.
Мне девять лет, я впервые в Крыму. Мы с отцом поселились в небольшом домике с небольшим садом, гордостью которого было старое персиковое дерево. Утро. Небо. Солнце. Море плещется неподалеку. Я выхожу из домика и сразу оказываюсь под раскидистыми ветвями, дразнящими плодами. Взбираюсь на сказочное, невиданное для московского мальчика дерево, срываю персик. Большой, увесистый, он покрыт нежной, слегка шершавой кожей и настойчиво требует прикосновения моих зубов. Рот сводит истомой предвкушения. Я прокусываю его, и сладкий сок наполняет рот. Одновременно с этим за соседским забором раздаются странные звуки. Я прислушиваюсь и понимаю: это звуки ударов и всхлипываний. Удар – всхлип. Удар – всхлип. За забором загорелый, похожий на быка сосед бьет своего старика тестя. Но сейчас, с дерева, я его не вижу, а только слышу. Я понимаю, что происходит страшное. Сердце начинает стучать в груди и висках. Сидя на суку и вслушиваясь в звуки насилия, я жадно глотаю сладкую, нежную, добрую, хорошую плоть персика. Сок течет по подбородку. Наконец, раздается отчаянный вскрик старика:
– За что ты меня бьешь?!
И ответ, полный угрюмой ярости:
– Хочу и бью!