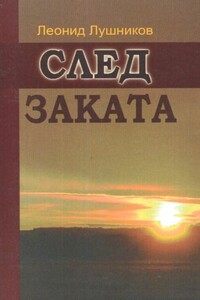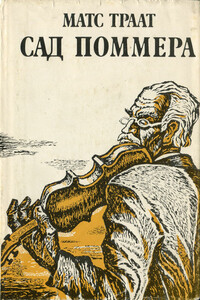Жизнь А.Г. | страница 34
Ожидание растянулось на годы, скрашенные лишь призрачным эхом пальбы на окраине да гулкими ударами его собственного сердца. Он был уверен, что в тот же день, самое позднее на следующий, его казнят, выпишут ему персональный билет на небо, но был как-то странно готов к этому, даже торопил развязку. Ведь если он не ошибся и его Империя погибла, длить комедию дальше было уже ни к чему. Он лишь боялся, что казнь будет позорной, скажем, в петле, с синюшной тряпицей вываленного языка, как у толстозадого мопса, Муссолини. Или еще того хуже: что мятежники посадят его в клетку и станут показывать публике, как зверя. А потому, полагаясь на милосердие палачей, надеялся всё же на пулю, простую испанскую пулю, и уже предчувствовал минуту, когда в затылок ему повеет злой вороненый холодок.
Он просидел в подвале недолго: спустя четыре часа его освободили гвардейцы Рохи и сохранившие верность присяге армейские подразделения Пеньи. Заговорщики были повешены на балконе дворца, мятежные полки остановлены на подступах к Мадриду, но за это время что-то в главе государства успело непоправимо измениться. Он с каменным лицом принял в своем кабинете Пенью и Роху, безучастно выслушал предложение о немедленном отступлении на юг и с таким же равнодушным видом дал свое согласие. Он хотел бодро сказать: “Да, сеньоры, мы отступаем”, но вместо этого язык проворочал что-то нечленораздельное:
– Мм… шеньоры… Мы шуштупаем…
Беззвучно лопнула внутри натянутая струна. Он стал вдруг как кукла, большая беспомощная кукла Авельянеда, жалкий паяц, бездушная марионетка. Ручки и ножки у этой куклы одеревенели, язык по-прежнему пытался одолеть непослушное слово “отступаем”.
Началась суматоха, прибежал полковой врач, сделал каудильо инъекцию. Куклу больно отхлестали по щекам, а потом выплеснули ей на лицо целый стакан противной затхлой воды – даже это в его государстве уже не годилось ни к черту.
Остальное Авельянеда помнил плохо.
Его положили в штабную машину с откидным верхом и накрыли армейским байковым одеялом тошнотворного, грязно-бурого цвета, под голову сунули трактат о сверхчеловеке. Машина завелась и поехала, Авельянеду трясло, над ним плыло кастильское небо, сначала вечернее, голубое, затем серое, тускнеющее, затянутое тучами, потом снова чистое, ночное, усыпанное звездами. Слезы ползли у него по щекам, жгучие, постыдные слезы, такие же горькие, как в тот день, когда он прочел в газете о поражении отечества в Испано-американской войне. Пронеслись над головой два рассерженных штурмовика – он так и не разобрал, мятежные они были или свои.