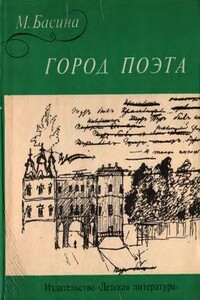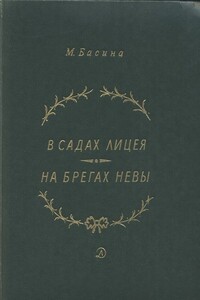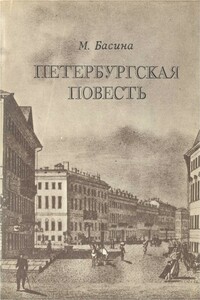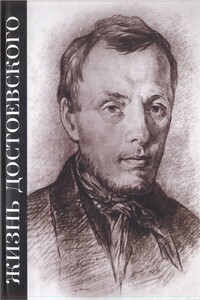Далече от брегов Невы | страница 16
Поездкам всем обществом Пушкин и братья Раевские предпочитали уединённые прогулки в горы — пешком и верхом. Заходили в аулы, наблюдали жизнь горцев. Аулы располагались по отлогостям гор. Низкие, длинные, крытые соломой сакли, слепленные из глины и хвороста, были без окон с отверстиями вместо дверей. Те, кто побогаче, убирали их внутри коврами, кто победнее — расписывали красками.
У очагов хлопотали женщины, одетые в свободные халаты и шаровары. Завидев незнакомцев, они закрывали лицо, но уже привыкли к русским и обычно не прятались.
«Черкесы, как и все дикие народы, отличаются пред нами гостеприимством. Гость становится для них священною особою. Предать его или не защитить почитается меж ними за величайшее бесчестие. Кунак (т. е. приятель, знакомец) отвечает жизнию за вашу безопасность и с ним вы можете углубиться в самую средину кабардинских гор». Так вскоре писал Пушкин в поэме «Кавказский пленник» и в примечаниях к ней.
Но пока он ничего не писал, ни стихов, ни писем. Не хотел, да и не мог. Жизнь его переломилась, пошла по-новому. Будущее рисовалось ему неопределённым. К южной природе он как-то сразу привык. К новому своему положению предстояло привыкнуть.
Единственное, что сочинил он на Кавказе, — эпилог к «Руслану и Людмиле». В нём поведал читателям о своей судьбе. Кончил так:
Было здесь нечто от элегической поэзии с её унылостью. Но было и другое — невесёлые, трезвые размышления. Судьба подвела черту под его петербургской жизнью, под его юностью. Юность ушла. С ней ушло многое. Беспечная, игривая муза — «богиня тихих песнопений», которая вдохновляла его, когда он писал «Руслана», — скрылась. Быть может, навсегда.