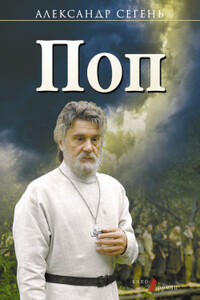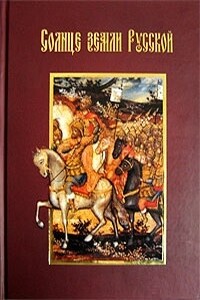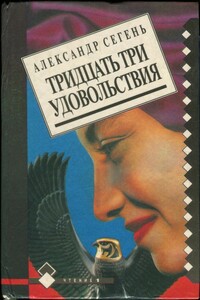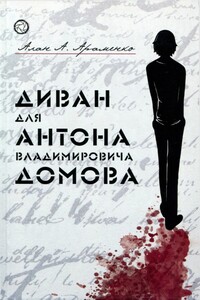Похоронный марш | страница 50
— Роджер! Роджер! Весе-о-олый!
К клетке была пришпилена обглоданная Роджером записка: «Попугая отдать Елене Орловой». К аккордеону тоже прилагалось завещание: «Аккордеон поступает в пользование красного уголка ЖЭКа. Павел Звонарев». Череп таежного охотника, под которым лежала записка странного содержания — «Со мной будешь у престола», милиция, как предмет крайне подозрительный, конфисковала.
Поскольку ни вещей, ни денег не обнаружилось, похороны взял на себя мясной магазин. Венков не было. Был только гроб. Музыки тоже не было, чтобы кто-нибудь не дай бог не подумал, что хоронят оперноголосого нашего Веселого Павлика.
…Два букета вялых, мертвенно-бледных хризантем — один от жильцов, другой — от Лены Орловой…
Наверное, после гибели Веселого Павлика я впал в беспамятство. Я совсем не помню, как мы встретили следующий Новый год. Должно быть, поэтому и год тот был слепой, беспамятный. В том году потерялась моя мать Анфиса, в том году все печально забыли, что жил когда-то в нашем дворе мощный голос Веселого Павлика.
Роджера можно было теперь видеть в окне у Лены Орловой. Его хотели тоже отдать в красный уголок ЖЭКа, но Лена потребовала, чтобы последнее желание Павлика было выполнено. Тем более, из всех попугай признавал только ее — на других топорщил крылья и бил тяжким клювом о звенящие стенки клетки. Летними вечерами я подходил к окнам Лены и видел, что в лучах закатного солнца железная клетка Роджера светится, будто золотая.
Умолк магазин на улице Братьев Жемчужниковых. Новый мясник лениво стукал топором и, невзирая на претензии старушек, раскладывал на прилавке глыбы костей, еле-еле подернутых мясной пленкой. Кроме тех глыб на витрине поселились обрюзгшие зельцы и фарши.
— А где же ваш певец? — изредка спрашивал кто-нибудь из покупателей, но не получал ответа.
Никто больше не пел в нашем дворе арий. Разве что по вечерам на скамейке садился с гитарой пьяный Игорь Пятно и гундосил:
БЕССОННИЦА
В последние дни мать очень сильно пила. На работу ее не принимали, а вернее, ей самой было уже не до работы. Во дворе грозились написать на нее бумагу, чтоб ее выселили за сто первый километр, но почему-то не написали. Боялись моего отца. Он мог прийти с минуты на минуту. Слово «амнистия» было любимым в нашей семье.
— А вдруг амнистия? — говорила мать утром, стоя перед зеркалом, уже опохмелившаяся, но еще не пьяная — то есть в состоянии минутного просветления, когда она вдруг спохватывалась, что вокруг нее — жизнь.