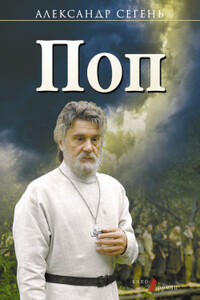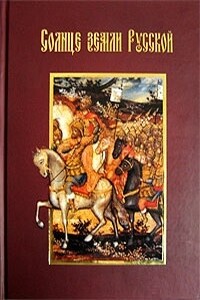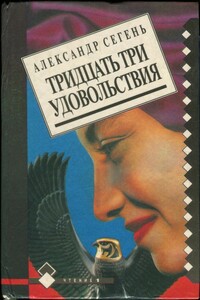Похоронный марш | страница 12
Недавно я шел по проспекту Калинина и увидел его, Сашку Эпенсюля, под руку с женой. Они прошли мимо меня, даже не заметили. Я остановился и долго смотрел им вслед. Она была действительно очень красивая, и я подумал, что она похожа на египетскую царицу, которой бредил Мишка Лукичев. Они удалялись, как символ собственной недосягаемости, но когда я зашагал дальше, мне вдруг стало как-то странно легко и весело. Пошел снег, бил мне в лицо, а я улыбался, и в груди у меня бушевали освобожденные, прорвавшиеся рулады:
Мне нужно было сдать на проявление отснятые кинопленки, и я зашел в лабораторию, что при магазине «Юпитер» на Калининском. Приемщицы не было на месте, и, ожидая ее, я все напевал молча: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц…»
— Фамилия? — спросила появившаяся наконец приемщица.
Я на миг запнулся и вдруг сказал:
— Эпенсюль.
— Апе́льсин? — переспросила приемщица.
— Да, — сказал я и увидел, как она вписала в квитанцию: «Апельсин».
ЧЕЛОВЕК
В январе, после досадной мокроты Нового года, наконец приходила зима в плотных серых валенках и глянцевых асфальтных калошах. Снег линовал окна и школьный двор за ними и писал на белоснежных листах сугробов свои контрольные и сочинения, оставляя в моих тетрадках жалкие следы умственных потуг. Любовь к снегу требовала в жертву двоек по математике и по русскому. Звонок с последнего урока давал взаймы еще один вечер, полный морозного пара изо рта, скользкой покатости горки, рыхлого холода мокрых варежек. А больше всего нравилось мне падать в мягкий сугроб и как можно дольше играть в убитого. Мне виделось, как вязкий снег подо мною окрашивается едкой кровью, и приятно было знать, что на самом-то деле ты жив-здоров. Другие ребята тоже не оспаривали зимой своей убитости и охотно падали, услышав: «Дранейчик готов! Ляля убит! Вовка убит!» И в плен зимой обычно не брали — вернее было прикончить на месте.
Вместе со снегом приходили апельсины, и их оранжевые шкурки окрашивали белизну двора, как позлащенные пятна нашей выдуманной крови.
В феврале зима розовела, засахаривалась, снизу начинала подтекать, а сверху хрустела и крошилась. На апельсинные дольки ложились с перемаранных пальцев мягкие голубые пятна чернил. Рыжее солнце насквозь прожигало заштрихованный деревьями двор, и дядя Костя Тузов, выходя утром из дому, обжигался о солнечные блики своим медным лицом. Пройдя от подъезда пять-шесть шагов, он тут делал запятую, закуривал и, выплевывая оранжевую слюну, говорил: