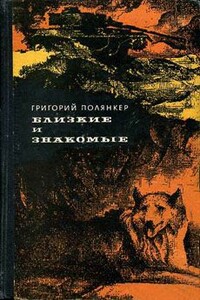Виктория | страница 9
В силу положения Азури как главного кормильца солнечная комната с большим окном принадлежала ему и его семье. По этой же причине Наджии достался и очаг прямо у входа в кухню. Но использовать свои привилегии она не умела, ни в кухне и нигде. Молодые снохи год за годом оттесняли ее все дальше, пока она не оказалась у последнего очага, в самом темном углу. Именно там и нашла в то утро прибежище Виктория. Некоторое время спустя в темноте обрисовалась фигура ее матери. И голос, хриплый от избытка чувств:
— Он сбежал, этот гад! Да и чего ему не уродиться в папочку? Бросил семью помирать с голоду и пошел распутничать. Маатук Нуну и тот его лучше. А ты запомни, что мать-то тебе говорит!
Маатук Нуну был сыном Абдаллы и братом Нуны. Жили они дверь в дверь с семейством Михали, и крыши их домов примыкали друг к другу. Из отверстия в крыше соседского дома поднимался могучий ствол пальмы, которая была единственным деревом во всем переулке. Абдалла Нуну так ею гордился, что казалось, будто и дом-то свой вокруг нее воздвиг. Летом ее гигантские ветви, покачиваясь на ветру, как компания подвыпивших гуляк, скрадывали скудость белых стен.
Большинство комнат в этом соседском доме пустовало. Вслед за красавицей Нуной на свет появился Маатук с шестипалыми руками и горбатой спиной. И потрясенный Абдалла тут же отделил свое ложе от ложа его матери. Маатук с самого рождения не выходил из дому из-за того, что дети издевались над его растущим горбом. А Хана, сестра Абдаллы, обвинила его мать в том, что она и на всех порчу наводит. Вот ведь не случайно, уверяла она, что она, Хана, на шестом месяце овдовела. И сын ее, Элиас, болен падучей. Впрочем, Абдалла Нуну в сестриных подстрекательствах не нуждался. Два уродства у одного ребенка — уж это слишком для богатого скототорговца, любившего принимать гостей и закатывать пиры. Он прогнал жену с ребенком в комнату, которую снял для них на окраине города и в которой они познали нелегкие дни. Гостей принимать перестал. И в одиночестве, полном запретных утех, стал лелеять красавицу Нуну. За пределами дома Нуна появлялась очень редко. Уже в десять лет она носила жемчуга, красила губы французской помадой и подводила глаза.
Дом Нуну и дом Михали были среди всеобщей нищеты двумя уголками изобилия. Бедняки здесь преклонялись перед теми, к кому Господь щедр Своими милостями. А потому в переулке никому и в голову не приходило осуждать отца с дочерью. Девушки Нуне завидовали. Ее имя в их устах звенело колокольчиком. Когда ей исполнилось двенадцать, она и вовсе закрылась в доме и никто ее не видал. Поговаривали даже, что красавица умерла от какой-то скоротечной болезни. Только все эти вымыслы опровергались сияющим видом Абдаллы, который по-прежнему два раза в неделю выезжал из дома верхом на белом муле, украшенном алыми кистями и зеленым бисером. Всех свах он прогнал, и это было встречено с пониманием. Еще бы, Нуне полагается жених особенный! И когда его слуги разразились радостными воплями, весь переулок пришел в движение. Каково же было всеобщее изумление, когда стали играть свадьбу Нуны! Жених был чужаком и для переулка и для города. Одни говорили, что его нашли в каком-то далеком порту, другие уверяли, что он из багдадской общины Индии. И вот сидели они с невестой на возвышении, и вид у него был жалкий, хуже, чем у работяг, разносящих по домам воду из Тигра. Оркестр, свечи и роскошные ковры его будто парализовали. Нуна сидела, не удостаивая его даже взглядом, а когда улыбнулась, сердца у людей сжались от наивного простодушия ее лица. Мужчины вдрызг напились, а женщины покидали пир с ощущением, что их надули.