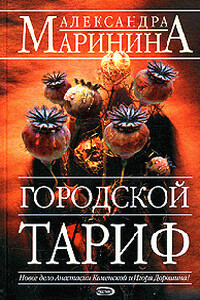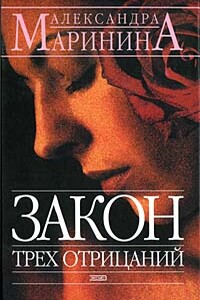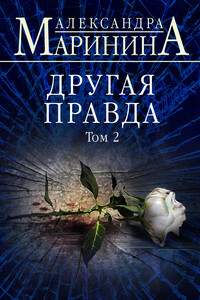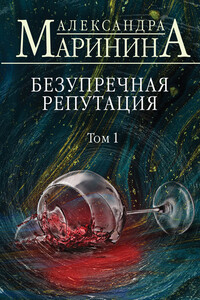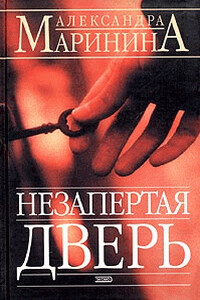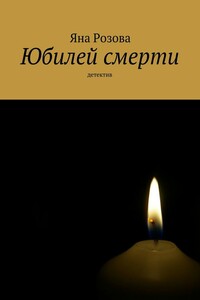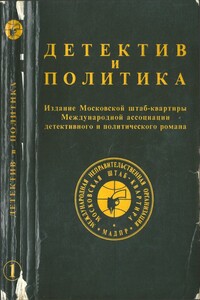Другая правда. Том 1 | страница 104
Итак, жил-был мальчик… Нет, неправильно, не с этого нужно начинать. Жила-была семья. Муж и жена. У них родилась дочка. Спустя пять лет появился сын. И если дочка как была дочкой, так и осталась, то сын быстро превратился в сыночка, сынулечку, радость ненаглядную, солнышко и «шелковый помпончик». Дочь жила под лозунгом бесконечного «должна и обязана», сыночек рос в атмосфере «конечно, можно, ты же самый лучший». Умом сыночек Андрюшенька не блистал, если объективно, но обожающая его мама вполне успешно внушила ребенку, что он чуть ли не гений, а если у него что-то не получается или кто-то не считает его умницей, то происходит это исключительно из-за злокозненной зависти и тупого непонимания со стороны «быдла», в окружении которого бедному мальчику приходится вращаться. А что поделать? Другой страны им не выдали, и других одноклассников, соседей и друзей не выдали тоже. Неординарным людям всегда мучительно трудно выживать среди толпы серостей и посредственностей.
Вероятно, так или примерно так воспитывали Андрюшу Сокольникова. Добавим к этому частые болезни в раннем детстве. Реальные или выдуманные излишне тревожной матерью, за каждый чихом видящей угрозу страшной пневмонии. В описях Настя видела несколько запросов в медицинские учреждения и диспансеры, и, пожалуй, было их многовато для дела об убийстве, в котором обвиняют молодого человека двадцати семи лет. Вероятно, мать на допросах, а потом в жалобах неоднократно делала упор на слабое здоровье сына, адвокат заявлял ходатайства, следователям приходилось соответствовать. Если бы речь шла о врачебной халатности, такое количество запросов можно было бы понять, но по убийству… Впрочем, если мать хотела обеспечить нужное заключение судебно-психиатрической экспертизы, то все объяснимо. Любопытно устроена жизнь! Двадцать семь лет, не жалея сил, внушать сыну и самой себе, что он гений и неординарная, выдающаяся личность, а потом с таким же упорством пытаться доказать, что он страдает психическим заболеванием, лишающим его способности осознавать содеянное и руководить собственными действиями. Тяжела материнская доля, особенно доля матери, безоглядно влюбленной в собственное чадо.
Итак, Андрюша растет, ходит в школу, более или менее учит предметы, которые нравятся, на другие, как говорится, забил напрочь. Общественной активности не проявляет (в противном случае благодарности «за участие» появились бы намного раньше), ничего выдающегося не совершает, но и ничего особенно плохого тоже не делает, иначе учителя не забыли бы его и выданная школой характеристика выглядела бы не такой куцей и вымученной. А они вспомнили только любовь мальчика к спорам на философские темы. И то не факт, что это правда. Могли не помнить вообще ничего, но мать так просит, так плачет, и так ее жалко, ну ладно, выдумаем и припишем пару ни к чему не обязывающих фраз про интерес к философским темам. Могло так получиться? Вполне. Даже про любовь его к отдельным предметам сведения наверняка добыты не из памяти преподавателей, а из хранящихся в школе ведомостей. Просто посмотрели, по каким предметам оценки были поприличнее, и сделали вывод.