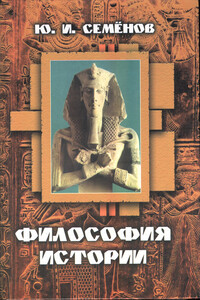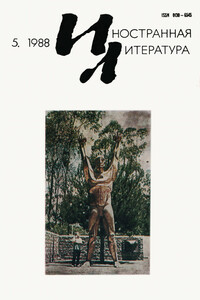Тропа обреченных | страница 3
Величественный покой царил в лесу. Особенно на этом березовом островке, среди редких широкоствольных дубов с раскидистой, отяжелевшей кроной. Казалось, слегка коснись могучего ствола, он тут же сбросит с ветвей кипенно-белое убранство.
Именно об этом — сбросит! — прежде всего подумал главарь банд в прилегающих к Луцку районах Иван Гринько — надрайонный проводник ОУН по кличке Зубр, высунувшись поутру из квадратного лаза схрона[2] и оглядываясь вокруг. Освоившись со слепящей яркостью косых лучей восходящего солнца, проникающих сюда будто бы сквозь атласные березовые стволы, Гринько увидел слева оголенные, сбросившие снег березы. В его сознании мелькнула предостерегающая мысль; снова отрясет пришедший связной припорошенные деревья, пока достигнет по перекидной жердине дороги. Любой проезжий тут поймет, что к чему, жди тогда обкладки чекистами или «ястребками»[3]… От одной этой мысли у проводника сжались кулаки, отросшие ногти до боли впились в ладони. Зубру вовсе не хотелось ни покидать с верными хлопцами Дмитром и Алексой их последнее перед «черной тропой» убежище, где он еще после болезни не успел набраться сил, ни уж тем более погибать.
Присев, Гринько протиснулся в узкий мерзлый проход и на четвереньках проник за дверцу. В прихожке-подсобке оказалось свободнее, тут можно было встать во весь рост — не удавалось это сделать лишь длинноногому Дмитро. В жилом отсеке с приходом связного Сороки стало тесно. Сейчас тот сидел на полу возле небольшого, наподобие табурета с высокими ножками, стола, развлекая лежащих на широких нарах охранников Зубра Дмитра и Алексу:
— …А толстая мне говорит: «Я вечером думала, приласкаешься ко мне…»
Вошедший Гринько жестко посмотрел на Сороку, гаркнул:
— Хватит о бабах! Выгоню тебя, Петро, в холодный лаз до вечера!
Сорока вскинул к плечу открытую ладонь: молчу! При этом желваки на его скулах мгновенно собрались, напряглись, выдавая истинное отношение связника к замечанию. Он приметил, как тут же сошла улыбка с тощего лица костлявого Дмитро, как прикрыл глаза пухленький подросток Алекса, еще не познавший девичьего поцелуя, но уже погубивший не одну человеческую жизнь.
— О Марии дозволяю рассказать, к жене брата не присмолился, надо думать? — прищурился Гринько, хихикнув нутром, так что колыхнулся ремень на животе, и вдруг остыл, спросив: — Она-то, надеюсь, не угодила за энкавэдэшный забор?
Петро свел густые, побритые поверху брови, от неожиданности соображая, что от него требуется. А потом ошарашил новостью: