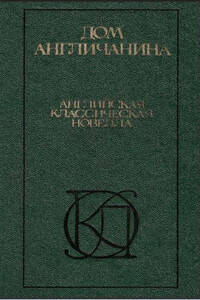Личное дело. Рассказы | страница 44
Именно эта утрата окончательно сломила пана Николаса. Разграбление дома, казалось, не произвело на него такого впечатления. Оба креста нашлись и были возвращены, пока дядюшка лежал, оправляясь от потрясения. Это способствовало его затянувшемуся было выздоровлению, но шкатулку и бумаги, сколько ни искали их по канавам, вернуть так и не удалось. Он не мог смириться с потерей наградного листа на орден Почетного легиона, в котором излагались его заслуги. Этот текст он помнил до последней запятой и после постигшего его удара, бывало, даже декламировал его со слезами на глазах. В последние два года жизни эти строчки преследовали его неотступно, и даже в одиночестве он повторял их снова и снова. В подтверждение этому старый слуга не раз говорил ближайшим друзьям: «Больно слышать, как ночами хозяин вышагивает по спальне и молится на французском языке».
Примерно за год до этих событий я в последний раз видел пана Николаса, вернее он видел меня. Как я уже говорил, моя мать приехала тогда на три месяца из ссылки и проводила отпуск в доме брата, а друзья и родственники приезжали отовсюду, чтобы выказать ей уважение. Невозможно представить, чтобы пан Николас манкировал подобным визитом. Девчушка всего нескольких месяцев от роду, которую он держал на руках в день своего возвращения домой после стольких лет войны и изгнания, теперь сама расплачивалась за веру в спасение родины тяготами ссылки. Присутствовал ли он в день нашего отъезда, мне не ведомо.
Я уже признавался, что для меня он был прежде всего человеком, который в юности съел зажаренную собаку в глуши заснеженного соснового леса. Мне трудно отыскать его в своих воспоминаниях. Нос крючком, редкие седые волосы, несвязный ускользающий образ – худой, сухопарый, прямой, застегнутый по-военному на все пуговицы – это все, что теперь осталось на земле от пана Николаса; лишь эта смутная исчезающая тень в памяти его внучатого племянника, который, надо полагать, только и остался в живых из всех, кого немногословный пан Николас повстречал на своем пути.
Но я хорошо помню день нашего отъезда обратно в ссылку. Причудливый ветхий тарантас, запряженный четверкой почтовых лошадей, стоит перед широким фасадом дома с восемью колоннами, по четыре с каждой стороны просторной лестницы. На ступеньках слуги, несколько родственников, пара ближайших соседей – в полной тишине; на лицах выражение холодной сосредоточенности; моя бабушка, вся в черном, с застывшим непоколебимым взглядом; мой дядя, под руку ведущий мать до кареты, куда меня уже усадили; наверху лестницы моя кузина в короткой юбочке из красной шотландки, как маленькая принцесса в сопровождении фрейлин; старшая воспитательница, наша милая тучная Франческа, тридцать лет служившая семейству Б.; бывшая кормилица, которая теперь присматривала за детьми на прогулке – красивое, полное сочувствия крестьянское лицо; и добрая дурнушка мадемуазель Дюран, гувернантка, на чьем лице цвета оберточной бумаги черные брови сходились над коротким, толстым носом. Среди всех глаз, устремленных на карету, только ее добрые глаза роняли слезы, и только ее всхлипывающий голос, обращенный ко мне, нарушил молчание: «N’oublie pas ton français, mon chéri»