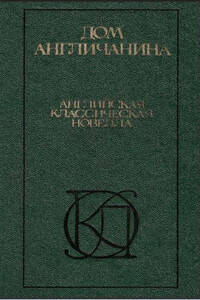Личное дело. Рассказы | страница 35
Целых пять минут я шел за ним следом. Потом он, не оглядываясь, остановился. Тени отдаленных горных вершин, удлиняясь, ложились на перевал Фурка. Когда я поравнялся с ним, он повернулся ко мне, встав на фоне пейзажа, в котором доминировала вершина Финстерааргорна, и целая орава его гигантских братьев уперлась исполинскими головами в сверкающее небо. Он положил мне руку на плечо.
«Что ж, довольно! Больше об этом ни слова».
Действительно, ни единого вопроса о моем таинственном призвании между нами больше не возникало. Вопросов больше не возникало никогда и ни у кого. Беззаботно беседуя, мы стали спускаться к перевалу Фурка.
Одиннадцать лет спустя, месяц в месяц, я стоял на Тауэр-Хилл на ступенях доков Святой Екатерины, капитан Британского торгового флота. Но того, кто положил мне руку на плечо на вершине перевала Фурка, уже не было в живых.
В год нашего памятного путешествия он защитил диплом философского факультета – и тогда только проявилось его истинное призвание. Следуя за ним, он тут же поступил на четырехгодичный курс медицинского института. Пришел день, когда на палубе пришвартованного в Калькутте корабля я прочел письмо, сообщающее о конце его завидного существования. Он практиковал в отдаленном городке Австрийской Галиции. В письме сообщалось, как все обездоленные округи – и христиане, и евреи – с рыданиями провожали гроб доброго доктора до самых ворот кладбища.
Как короток век и как велика его проницательность! Рассчитывал ли он чего-то добиться, заслужить уважение или сохранить чистую совесть, когда, стоя на перевале Фурка, он призывал меня вглядеться в финал моей только начинавшейся жизни?
III
Образ двоюродного дедушки, пожирающего несчастную литовскую собаку в компании двух солдат, доведенных до состояния изголодавшихся, пугал, символизировал в моем детском воображении весь ужас бегства из Москвы и безнравственность завоевательских амбиций. Крайнее отвращение к этому малоаппетитному эпизоду окрасило мое отношение к личности и деяниям императора Наполеона. Стоит ли говорить, что приязни к нему я не питаю. Заставить простодушного польского пана съесть собаку, взрастив в его душе ложную надежду на независимость родины, было со стороны великого кормчего просто безнравственно. Такова судьба этого доверчивого народа – прозябать еще сотню лет на скудном пайке из ложных надежд и – собачатины. Это, если подумать, исключительно нездоровый рацион. Можно простить себе некоторую гордость за национальный характер, который до сих пор выдерживает эту губительную диету.