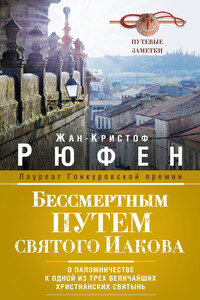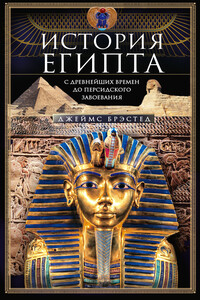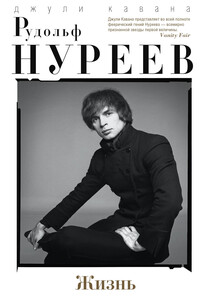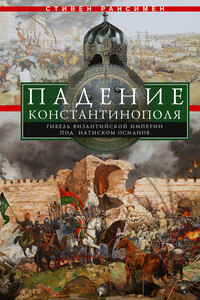Русская нация. Национализм и его враги | страница 80
В 1742 г. бывший токарь Петра I академик А.К. Нартов подал в Сенат «доношение», направленное против финансовых махинаций Шумахера и немецкого засилья в академии вообще. Нартов настаивал на том, что Петр «повелел учредить Академию не для одних чужестранцев, но паче для своих подданных». Выписанные же Шумахером из-за границы профессора «все выдают в печать на чужестранных диалектах», а главное, «обучение российского народу молодых людей оставлено, а производят в науку чужестранных, в которых Российской империи никакой пользы быть не может, кроме единого казенного убытка, который при том исходит на жалованье и на прочее, с чем оные по времени имеют бежать в свои отечества». Между тем, «для лучшего произведения наук <…> можно бы изыскать ученых несколько человек из Россиян, но того ему, Шумахеру, в память не приходит…»[354].
Были и другие «доношения», в которых говорилось, что русские переводчики получают жалованья гораздо меньше, чем немецкие, что «русских учеников немецкие мастера так отменно обучают, что в двадцать лет их науке совсем выучиться человеку русскому не можно», что Шумахер всячески притесняет русских и покровительствует единоплеменникам – «определяет в Академию людей самых бесполезных, лишь бы только немчина». Обращалось внимание на то, что в гимназии при академии многих немецких учителей можно легко заменить на русских, в качестве примера приводился некий Фишер: «…Немец недостаточный и при том не малый пьяница <…> Русские с нуждою его разумеют и более за шута, нежели за учителя принимают»[355].
Примечательно, что в конце концов Шумахер, за которого вступились немецкие академики и покровители из русской знати, был оправдан. Наказанию же были подвергнуты «доносители»[356]. М.В. Ломоносов, поддерживавший Нартова, а позднее вступивший в острейшую распрю с большинством академиков-немцев, дошедшую до публичного скандала в Академическом собрании, в июле 1743 г. «был признан виновным по нескольким статьям, и ему грозило не только увольнение из академии, но и наказание плетьми. <…> Только 12 января 1744 года Сенат <…> постановил: “Оного адъюнкта Ломоносова для его довольного обучения от наказания освободить, а во объявленных им продерзостях у профессоров просить прощения” и жалованье ему в течение года выдавать “половинное”»[357]. Эта безрадостная ситуация явно отразилась в ломоносовском переложении 143-го псалма: