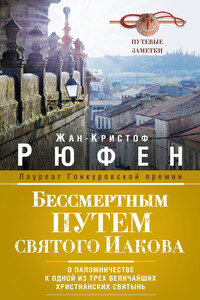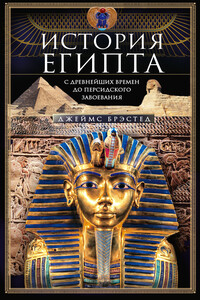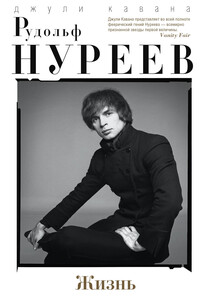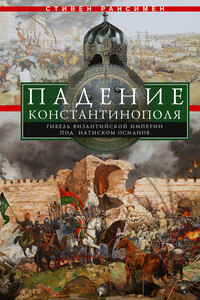Русская нация. Национализм и его враги | страница 71
Если армия была местом более-менее равноправного русско-немецкого соперничества[303], то МИД со времен Анны Иоанновны[304] являлся, по сути, немецкой вотчиной, где русские играли вторые-третьи роли. «Мы как сироты в Европе, – жаловался в 1818 г. Ф.В. Ростопчин. – Министры наши у чужих дворов быв не русскими совсем для нас чужие»[305]. Пика эта ситуация достигла в долгое министерство графа К.В. Нессельроде (1828–1856), когда 9 из 19 российских посланников исповедовали лютеранство[306]. По свидетельству дочери Николая I великой княжны Ольги Николаевны: «При Нессельроде было много блестящих дипломатов, почти все немецкого происхождения, как, например, Мейендорф, Пален, Матусевич, Будберг, Бруннов. Единственных русских среди них, Татищева и Северина, министр недолюбливал, как и Горчакова»[307]. О том, как относились к своим немецким коллегам «природные русские» дипломаты, можно судить по письмам Ф. Тютчева (долгое время служившего в МИД) А.М. Горчакову. В одном из них (1859) поэт приписывает внешнеполитический курс России на союз с Австрией этническому происхождению верхушки дипломатического ведомства: «Это эмигранты, которые хотели бы вернуться к себе на родину»