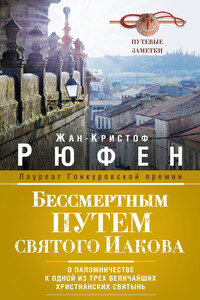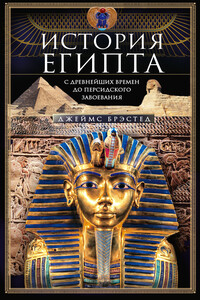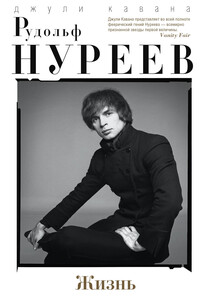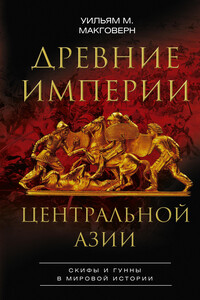Русская нация. Национализм и его враги | страница 40
Политический национализм
И государственный патриотизм, и ксенофобия были вполне традиционны для русской политической мысли XVIII – начала XIX в. (достаточно вспомнить в первом случае Карамзина, а во втором – Ростопчина), своеобразие декабристского национализма, его стержень состояли в другом – в новой для России модернистской демократической концепции нации, понимаемой как совокупность равноправных граждан, охватывающая весь этнос, и как единственный источник суверенитета. Таким образом, отвергались и монархическая («вотчинная») трактовка нации (как совокупности подданных самодержца, который и является источником суверенитета), и ее аристократический вариант (где под нацией понималась только социальная элита, в русских условиях – дворянство).
Пафос декабризма был направлен против самодержавного «обращения с нацией как с семейной собственностью»[156]. «Для русского больно не иметь нации и все заключить в одном государе», – писал Каховский перед казнью Николаю I[157]. Оба главных программных документа декабризма утверждают демократическое понимание нации. «Конституция» Н. Муравьева начинается с утверждения того, что русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства <…> Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя»[158]. В пестелевской «Русской правде» говорится: «Народ есть совокупность всех тех людей, которые, принадлежа к одному и тому же государству, составляют гражданское общество, имеющее целью своего существования возможное благоденствие всех и каждого <…>. А посему народ российский не есть принадлежность или собственность какого-либо лица или семейства. Напротив того, правительство есть принадлежность народа и оно учреждено для блага народного, а не народ существует для блага правительства»