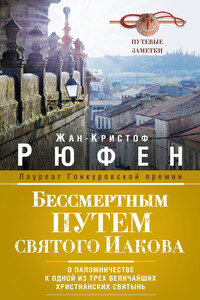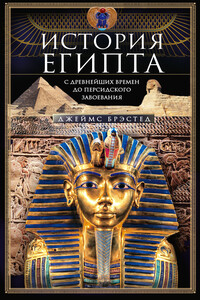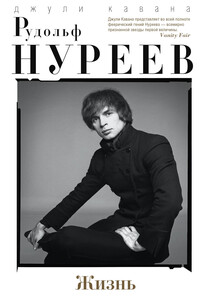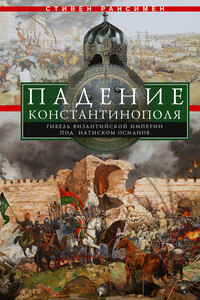Русская нация. Национализм и его враги | страница 118
Однако к чаемым славянофилами результатам процесс «дешляхетизаци» ЦП не привел. Радикальная демократизация Польши (как и любая другая радикальная демократизация) не входила в планы верхушки сословно-династической империи[545]. «…За целых полвека не удалось ни отказаться от военного положения, ни в полной мере распространить на окраины российские реформы, ни сделать польское крестьянство надежной опорой владычества самодержавия над Польшей. Можно говорить о колебаниях и об отсутствии политической воли: пользуясь характеристикой Н.Х. Бунге, “по временам за дело принимались с лихорадочной поспешностью, которая сменялась полной апатиею”»[546]. Захлебнулась и лингвистическая русификация начальных школ: «Эксперимент с учебниками на основе русской азбуки был прекращен в 1870-х гг. После отстранения окружения Н.А. Милютина и Гильфердинга от руководства политики в отношении царства Польского он был заменен традиционной моделью административной русификации»[547].
Катков прекрасно осознавал все минусы пребывания Польши внутри империи: «Зло извне, действительно, менее опасно, чем зло внутри. Если мы положительно считаем неспособными уладить дело с Польшею, так, чтобы она не могла иметь враждебных против Русского государства притязаний, то русским людям, конечно, не остается желать ничего иного, как полного отделения ее, хотя бы то было сопряжено с ущербом государственному достоинству и силе России. Из двух зол надо выбирать меньшее»[548]. Но он никогда после 1863 г. не выступал в поддержку отделения Польши или ее автономии (к которой склонялся до мятежа), а, наоборот, неустанно подчеркивал, что «царство Польское не только не может быть отделено от России, но напротив должно теснее, чем когда-либо, соединено с нею»[549]. Правда, в письмах к Александру II и Александру III Михаил Никифорович неоднократно рассуждал о благе предоставления Польше независимости в «ее этнографических границах», из чего А.И. Миллер делает вывод, что Катков «при определенных условиях готов был бы пожертвовать частью имперских территорий для создания более благоприятных условий реализации русского националистического проекта»