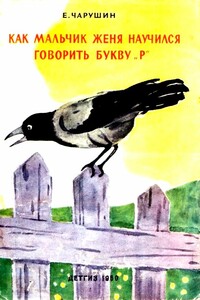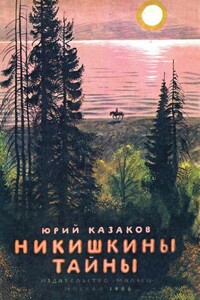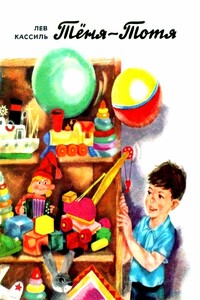Троицкие сидельцы | страница 36
Воеводы Долгорукий и Голохвастов медленно шли по верхнему ярусу крепостной стены. Их сопровождал монастырский оружейник. В крепости, под стенами, было людно, повсюду ходили стрельцы. А здесь, на стенах, — ни души.
— Почему нигде не видно стражи? — спросил князь.
— Стражу выставляем на ночь, — ответил оружейник, трогая бороду, — и зажигаем вот эти фонари. — Он показал на слюдяные фонари, висевшие на деревянных шестах, прибитых к стене.
— И в башнях никого нет?
— Никого. А зачем? Двери туда заперты, ключи у меня. — Оружейник достал из кармана связку больших, немного заржавевших ключей, потряс их в руке.
Они подошли к угловой Пятницкой башне, которая защищала юго-восточный выступ крепости. Оружейник взялся левой рукой за ручку низенькой двери, долго подбирал ключи, вставлял то один, то другой в замок, наконец что-то в нем заскрежетало, и дверь подалась.
В башне сумрачно, несмотря на яркий день. Через бойницы видна недалеко мельница на реке Кончуре и за ней холм — Терентьева роща.
— Гляди, князь, — сказал Голохвастов, — вот откуда надо ждать нападения! С этого холма монастырь виден как на ладони! И ров перед стенами неглубокий.
— Да, отсюда, — согласился князь, — но зато и башня эта крепка… Сколько здесь пушек на всех ярусах? — обратился он к оружейнику.
— Восемь пушек.
Возле следующей, Водяной, башни воеводы увидели огромный медный котел ведер в сто, заполненный почти до краев застывшей черной смолой. Оружейник не сразу открыл дверь и в эту башню. Воеводы заметили это.
— Проверь все замки в дверях башен, — сказал Голохвастов оружейнику. — Сделай сегодня же еще одни ключи к каждой двери для дозорных; их будем посылать по два человека на каждую башню три раза: утром, днем после обеда и в полночь.
— Сделаю.
— Отсюда тоже удобно нападать на монастырь! — сказал князь. — Стены здесь пониже, а за тем небольшим оврагом… Как он называется? — Долгорукий посмотрел на оружейника.
— Глиняный овраг.
— За тем оврагом опять холм.
Северо-западная сторона не была так удобна для обстрела и приступов: ровное Княжее поле переходило ближе к монастырю в Мишутинский овраг, в котором разлился Конюшенный пруд; широченный, с обрывистыми краями, почти непроходимый из-за топи и полусгнившего бурелома, овраг служил естественной защитой крепости; с севера тянулся сплошной лес, отступавший у самых стен близ Житничной башни, где зеленела капуста на огороде; здесь же застыл Нагорный пруд, снабжавший водою монастырь. Она текла по трубам, проложенным под землей.