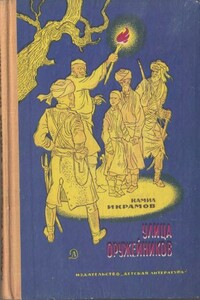Дело моего отца | страница 90
— Я говорила с твоей мамой в последний раз в июне тридцать седьмого. Вы жили тогда в гостинице. Она была одна в номере. Я пришла и говорю: „Женя! Ханифа арестовали! Что мне делать?“ А мама твоя говорит: „Собирай вещи, забирай дочку, мы завтра возвращаемся в Ташкент, поедешь нашим вагоном“. Я говорю: „Женя, не могу же я бросить здесь Ханифа, надо хлопотать, ведь он невиновен“ А она ответила мне: „Если его взяли, Надюша, значит, он — сволочь“.
Моя мама, Евгения Львовна Зелькина, — старый член партии, очень знающий и талантливый экономист-аграрник — была заместителем наркома земледелия Узбекистана. С Ханифом Бурнашевым она работала с 1922 года и знала его так же давно, как и моего отца.
— Понимаешь? Она мне сказала: „Если его взяли, значит, он — сволочь“. Я тогда упала в обморок.
Мне стало стыдно за мать, а тетя Надя, увидев мою растерянность, добавила:
— Нет. Ты не понимаешь. Я упала в обморок потому, что когда в тридцать шестом арестовали моего главного редактора (я тогда в издательстве работала), Ханиф сказал: „Если его взяли, значит, он — сволочь“. Те же самые слова. От этого я сознание потеряла.
Тетя Надя не была ответственным работником. Она была женщиной. Она жалела своего редактора, любила мужа, до сих пор жалеет мою мать. А недавно я узнал, что в тот час, когда мать говорила это, в мае и июне тридцать седьмого, на допросах в НКВД Узбекистана арестованных сотрудников Наркомзема под пытками заставляли давать показания о ее вредительской деятельности.
Это было в то самое время, когда Сталин обнимал моего отца на заключительном концерте декады узбекского искусства в Большом театре и указывал аплодирующему залу: „Не мне, мол, аплодируйте, а ему. Это он такой молодец“.
Я помню этот заключительный концерт, сияющий золотом Большой театр, полную сцену артистов и ложу далеко слева, где находилось все Политбюро и мой отец рядом со Сталиным. Мне было плохо видно его, потому что мы сидели в центральной, бывшей императорской ложе. Я помню этот концерт, потому что до него и после отец был единственным, кто не радовался. Он был хмур, сдержан и немногословен.
Почему не радовали его сталинские объятия?
В каждом из нас, наверное, с детства, с букваря живет уважение к печатному тексту. Со временем мы начинаем понимать, что бумага все стерпит, но кажется нам, что в этом есть преувеличение, что какая-то доля истины в печатном тексте должна быть. Ибо не может быть…
Как бы то ни было, а читал я книги и статьи тех лет, чтобы узнать правду. Конечно, я не верил тому, что отец был завербован английской разведкой, что сам был басмачом, но что-то было?