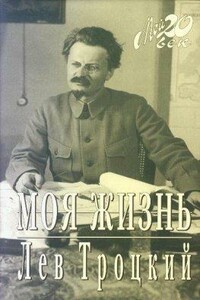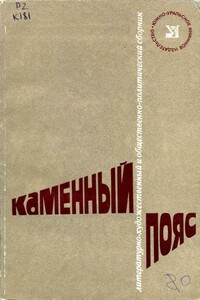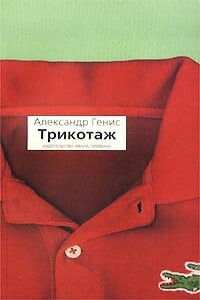Туда и обратно | страница 32
– А сколько вёрст мы проехали? – справляюсь я у Никифора.
– Да вёрст 300 надо быть. Только кто его знает? Кто здешние вёрсты мерял? Архангел Михаил, больше никто не мерял… Про наши вёрсты давно сказано: меряла баба клюкой, да махнула рукой… Ну да ничего: дня через три будем на заводах, только бы погода продержалась. А то бывает – ой-ой… Раз меня под Ляпином буран захватил: в трое суток я пять вёрст проехал… Не дай Бог!
Вот и Малые Оурви: три-четыре жалкие юрты, из них только одна жилая… Лет двадцать тому назад они вероятно, были заселены все. Остяки вымирают в ужасающей прогрессии… Вёрст через десять приедем в Большие Оурви. Застанем ли там Семена Пантюя? Дос танем ли у него оленей? На наших ехать дальше нет никакой возможности…
… Неудача! В Оурви мы не застали мужиков: они с оленями стоят в чуме, на расстоянии двух оленьих побежек; приходится проехать несколько вёрст назад и затем свернуть в сторону. Если б мы остановились в Малых Оурви и разведали там, мы сэкономили бы несколько часов. В настроении близком к отчаянию я дожидался, пока бабы добывали нам одного оленя на смену нашему захромавшему вожаку. Как всюду и везде, оурвинские бабы находились в состоянии похмелья, и, когда я стал разворачивать съестные продукты, они попросили водки. Разговариваю я с ними через Никифора, который с одинаковой свободой говорит по-русски, по-зырянски и на двух остяцких наречиях: верховом и низовом, почти несхожих между собою. Здешние остяки по-русски не говорят ни слова. Впрочем, русские ругательства целиком вошли в остяцкий язык и наряду с государственной водкой составляют наиболее несомненный вклад государственно-русификаторской культуры. Среди тёмных звуков остяцкой речи в местности, где не знают русского слова «здравствуй», вдруг ярким метеором сверкнет удалое отечественное слово, произносимое без всякого акцента, с превосходной отчетливостью.
Время от времени я угощаю остяков и остячек своими папиросами. Они курят их с почтительным презрением. Эти пасти, закалённые спиртом, совершенно нечувствительны к моей жалкой папиросе. Даже Никифор, уважающий все продукты цивилизации, признался, что мои папиросы не заслуживают внимания. «Не в коня овёс», – пояснил он мне свой приговор.
Мы едем в чум. Какая дичь и глушь кругом! Олени бродят по сугробам снега, путаются между деревьями в первобытной чаще, – и я решительно недоумеваю, как ямщик определяет дорогу. У него имеется для этого какое-то особое чувство, как и у этих оленей, которые удивительнейшим образом лавируют своими рогами в чаще сосновых и еловых ветвей. У нового вожака, которого нам дали в Оурви, огромные ветвистые рога, не менее пяти-шести четвертей длиною. Дорога на каждом шагу перегорожена ветвями, и кажется, что олень вот-вот запутается в них своими рогами. Но он в самую последнюю минуту делает еле заметное движение головой, – и ни одна игла не дрогнет на ветке от его прикосновения. Я долго следил неотрывающимся взглядом за этими манёврами, и они казались мне бесконечно таинственными, какими кажутся всякие проявления инстинкта нашему резонирующему разуму.