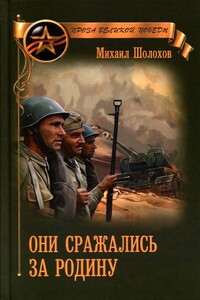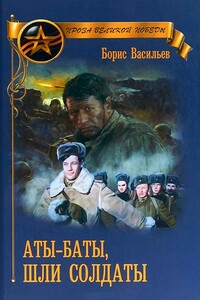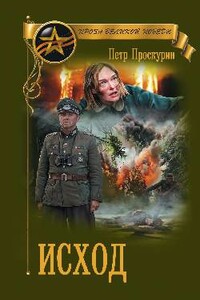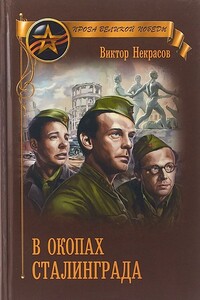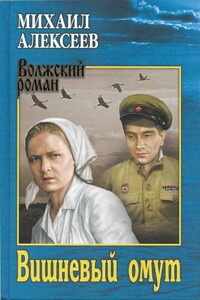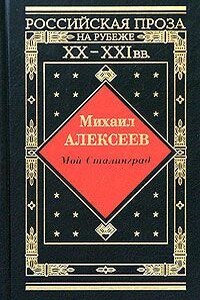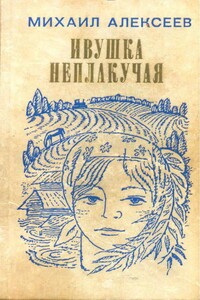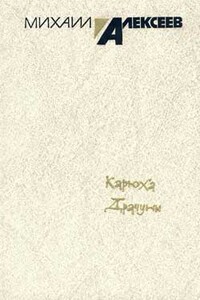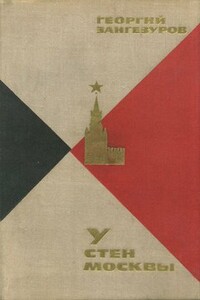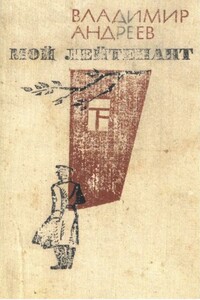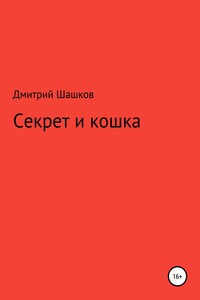Мой Сталинград | страница 86
А что ожидало нас впереди, никто не знал. Никто не знал, а думали о том все.
18
Может быть, нам следовало бы укрыться в каком-нибудь овражке, заросшем кустарником, дождаться ночи и потом уж, под ее покровом, продолжать движение: днем немецкие самолеты, будучи полными хозяевами в небе, бомбили и расстреливали не только скопления наших войск, но гонялись и за малыми группами и даже за одиночками, вырвавшимися из балки, где продолжалась мясорубка, и рассыпавшимися по степи. «Где же наши-то истребители, знаменитые „ишачки“, где они? – спрашивали мы сами себя и не находили ответа. – Неужели ни одного не осталось?» Но вот видим – один, во всяком случае, остался. Прижимаясь чуть ли не к самой земле, краснозвездный куцеватый истребитель уходил не уходил, а улепетывал что было духу от другого самолета, напоминающего злую осу с ярко-желтым ободком на его фюзеляже. Расстояние между ними быстро сокращалось, «мессер» уже выпускал очередь за очередью из своих не то пушек, не то крупнокалиберных спаренных пулеметов, но очереди эти пролетали выше цели, потому, видно, что немец боялся пикировать под острым углом (с такой высоты он легко мог врезаться в землю), но продолжал преследовать.
Очень скоро самолеты исчезли из наших глаз, растворились у горизонта в зябком мареве. Но «мессершмитта» мы увидели вновь, когда он возвращался назад со своей одиночной, «свободной», охоты. И то, что она была успешной для гитлеровского аса, мы убедились через какой-нибудь час горького нашего марша, когда увидели обломки «ишачка» и рядом с ними самого летчика – не его, конечно, самого, а то, что от него осталось: тело было разорвано на куски и раскидано вокруг обломков; ноги, обутые в модные на ту пору сапоги (их мастерили солдаты-умельцы для своих щеголей, молодых лейтенантов, из брезентовых плащ-накидок, ну а для этого бедолаги-модника, не иначе, как его технарь [16]). Глаза мои не могли оторваться от одного сапога, валявшегося отдельно рядом с разрушенной кабиной: из него торчал кровавый обрубок ноги, лишь верхние обнаженные осколки костей белели. Увидели мы и голову летчика – она отлетела далеко вперед и попалась нам на глаза, когда мы, потрясенные этим зрелищем, не сказав ни слова и не глядя друг на друга, поскорее двинулись дальше. Я все же успел заметить, что из-под шлема пилота виднелись нос и глаза, до предела расширенные в предсмертный час да так и застывшие в таком положении, даже слеза, выкатившаяся из одного из них, казалось, не успела засохнуть. Надо было бы попытаться собрать по кусочку этого летчика, возвращавшегося с боевого задания и не вернувшегося из него, собрать, выкопать хотя бы небольшую ямку да и похоронить, но мы не нашли в себе силы, чтобы сделать то, что должны были бы сделать: боязнь самим быть настигнутыми врагом здесь, на открытом поле, подстегивала и гнала нас на восток. Теперь не один я шел в одних голенищах – совершенно босым вышагивал Усман Хальфин. Оставался в сапогах Гужавин и только потому, что сапоги у него были трофейные, немецкие, сшитые из толстенной воловьей кожи, окованные железом и на каблуках, и на носах. Где и когда он их раздобыл, никто, кроме него, не знал. Гужавии несколько раз предлагал их поочередно то мне, то Хальфину, но мы отказывались. В конце концов он решил уравнять себя со всеми остальными: снял сапоги. Сделать это было проще простого – достаточно тряхнуть ногой, и сапог с широченным раструбом голенища улетит далеко в сторону. Сержант, конечно же, не бросил эти мастодонты, попиравшие чужую для них землю на протяжении нескольких тысяч верст, а засунул в свои большой вещевой мешок, подумавши: «Еще пригодятся».