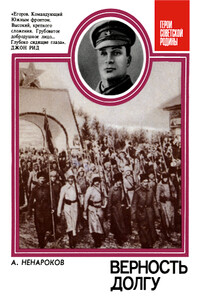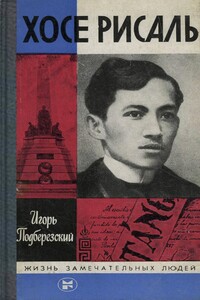Повесть о Макаре Мазае | страница 57
Вавилыч опустился на колени перед Макаром Никитовичем, стер с его лица кровь и заплакал:
— Убили нашего Мазая!
Кто-то брызнул на сталевара водой, и он открыл глаза. Его положили на нары к окну, и Вавилыч расстегнул на нем куртку. Тишину нарушало лишь хриплое дыхание Мазая.
Через некоторое время Макар Никитович попросил воды.
— Сколько же может выдержать человек? — произнес Вавилыч.
— Человек все выдержит. Если он человек, — совсем тихо, но внятно ответил Мазай.
И тогда в камере разом заговорили почти все ее обитатели.
— Подумать только, — сказал один из узников, — когда мы поймали гитлеровца, то сначала судили всей боевой группой, а уж потом расстреляли. Как будто бы есть гитлеровцы невиновные! Можно ли судить бешеных собак!
— За то, что творилось у противотанкового рва на Агробазе, всех фашистов стереть бы с лица земли.
— В одном я полностью согласен с шефом полиции Шаллертом, — сказал Вавилыч. — Он кричал на допросе, что ильичевцы унаследовали от своих дедов и отцов ненависть к немцам. Только не к немцам вообще, а к немецким оккупантам. Я их помню еще по восемнадцатому году. Сколько они расстреляли нашего брата! Немцы тогда закрыли оба завода в Мариуполе, и днем и ночью вывозили оборудование в Германию.
Мазай застонал, и к нему бросились узники. Он отстранил их и прошептал:
— Пройдет… Минуту…
Макар Никитович полежал немного, превозмогая мучительную боль. Через короткое время снова приподнялся, сделал глубокий вдох, как бы набираясь сил…
В камеру ввели еще двух смертников: один был совсем еще мальчишка, лет шестнадцати, второй постарше, лет двадцати.
— Чего ты расхлюпался перед этой сволочью, — отчитывал старший младшего. — Он и впрямь может подумать, что ты струсил…
— Да нет, это я от боли, — оправдывался младший. — Согнула она меня на минуту. А умереть я сумею как надо.
Старший увидал Вавилыча:
— И вы здесь?
Присмотревшись к Мазаю, он узнал сталевара и скорее выдохнул, чем произнес:
— И товарищ Мазай в этой камере…
Младший закрыл лицо руками.
Снова загремела дверь, конвойные втолкнули в камеру человека в рваной гимнастерке.
Он отдышался, осмотрелся и заговорил:
— Во избежание недоразумений сообщаю, что я действительно служил в полиции и кое-кто меня сейчас узнал. Но бить меня не следует, потому что я не «наседка», а настоящий преступник, приговоренный гестапо к расстрелу. Может, мое присутствие мешает вам беседовать? Так должен заметить, как бывший полицейский, что подобные беседы вообще вести опасно.