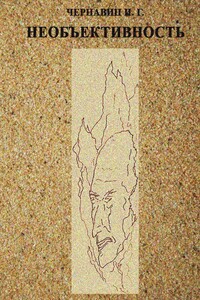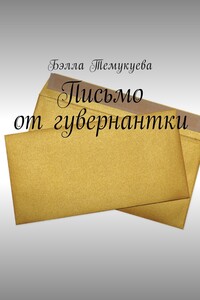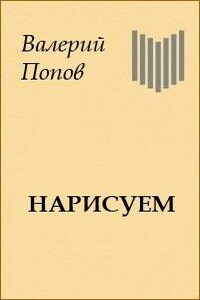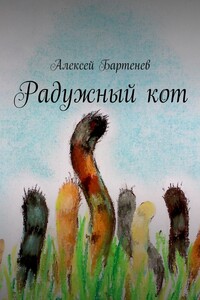Идиот | страница 10
Я больше не брала частных уроков музыки: знакомых учителей в Бостоне у меня не было, а просить еще денег у родителей мне не хотелось. В первые пару месяцев я продолжала ежедневно заниматься одна, в подвале, но потом эти занятия стали казаться делом пустым и неадекватным, оторванным от реальной жизни человечества. Вскоре даже сам запах скрипки – запах клея, или дерева, или чем там пахнет, когда открываешь футляр, – начал нагонять на меня тоску. Просыпаясь в субботу, день музыкальной школы, я по-прежнему порой испытывала нетерпение поскорее пойти туда и играть, но потом возвращалась к реальности.
Выбрать курс по литературе оказалось непросто. Всё, что говорили профессора, представлялось каким-то неуместным. Я хотела знать, почему Анне Карениной непременно нужно было погибнуть, а тебе рассказывают про то, что русские помещики в девятнадцатом веке не могут решить, европейцы они или нет. Подразумевалось наивным ожидать бесед об интересных вещах или думать, что ты когда-либо узнаешь что-то важное.
Меня не занимали проблемы общества или денежные трудности людей прошлых веков. Мне хотелось узнать, о чем именно говорят книги. Именно так мы с матерью всегда и обсуждали литературу. «Я хочу, чтобы ты тоже это прочла, – говорила она, протягивая мне “Нью-Йоркер” с историей о несчастном в браке мужчине, которому пришлось сделать прививку от бешенства, – и рассказала мне, о чем здесь речь на самом деле».
Я сходила на курс «Лингвистика 101» посмотреть, что там такое. Там говорили о том, что язык – это биологическая способность, жестко встроенная в мозг, – она не имеет пределов, может возобновляться и никогда не остается неизменной. Самый главный, главнее Святого писания, закон – это «интуиция носителя языка», закон, которого нет ни в одном грамматическом учебнике и который нельзя ввести в компьютер. Возможно, это будет мне интересно. Всякий раз, когда мы с матерью беседовали о той или иной книжке и мне приходила в голову мысль, которая не приходила ей, она с восхищением восклицала: «Вот ты говоришь по-английски по-настоящему!»
Профессор лингвистики, благодушный фонетик с легким дефектом речи, специализировался на диалектах тюркских племен. Порой он приводил примеры из турецкого, чтобы показать, как может отличаться морфология в неиндоевропейских языках, а потом он улыбался мне и говорил: «Знаю, среди нас есть говорящие по-турецки». Однажды в коридоре перед занятием он рассказал мне о своей работе, где изучались региональные консонантные вариации названия костровой ямы, вырытой где-то тюрками.