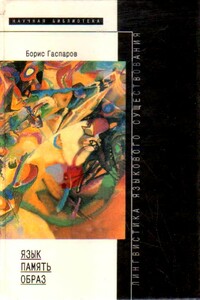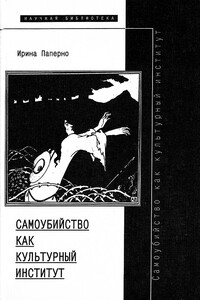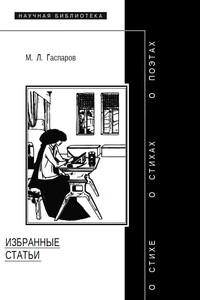Блокадные нарративы | страница 3
Фокус нашего сборника нацелен на его объект: для того чтобы закрыть зияющую дыру в исследовании Ленинградской блокады, мы сосредоточились на интермедиальном измерении блокадного письма, то есть на формах и функциях репрезентации блокады в различных медиа (в художественной и фактографической литературе, кино, радио, устном пересказе и т. д.)[1]. Блокада с самого начала породила настоящий поток репрезентаций, очевидная функция которых заключалась в вербализации пережитого и тем самым переводе его в категорию опыта; в желании придать смысл внезапному началу войны и блокады; в стремлении сделать непредставимое и неописуемое представленным и описанным. В этом плане тот парадокс между провозглашаемой неописуемостью пережитого и необходимостью изобразить блокаду, на который ты, Полина, указываешь, на самом деле никакой не парадокс, напротив, он – необходимое условие для появления письма, ищущего решения для проблемы изображаемости как таковой.
Важно подчеркнуть, что блокадное письмо было не более чем общим предметом исследования; методологический подход к блокадному письму, как мы его замышляли, должен был обладать своей спецификой, а именно быть исследованием нарративного измерения блокадной репрезентации. И именно здесь проявились те методологические расхождения, которые привели к неожиданному для меня результату. Я не уверен, что наши авторы, включая и нас, подразумевают под «нарративностью» блокады одно и то же. Понятие нарратива лично я использую не в качестве синонима «текста» (как в литературоведческом, так и в семиотическом смысле)[2] или «дискурса» (в смысле Мишеля Фуко), а в более общем нарратологическом смысле. В этом я опирался на устоявшуюся и продолжающую разрабатываться традицию, рассматривающую нарративность как феномен, свойственный не только литературным текстам. Самое позднее с появлением семиологии Ролана Барта или метаистории Хайдена Уайта стало ясно, что люди являются в первую очередь производителями историй: наша картина мира состоит по большей части из рассказов о нем, и культуры определяют себя через нарративы – взять, к примеру, истории о начале времен[3].
Какова познавательная мощность нарративов? Они способны придавать фактам осмысленность посредством определенных операций: установлением начального и конечного моментов, выбором событий и их линеарной организацией в определенном порядке, сополаганием персонажей, моделированием пространства и т. д. Нарративы – это структуры порядка, побеждающие контингентность и вводящие причинно-следственную связь в хаос чистой событийности. Они представляют собой исключительно гибкие конструкты, легко совмещающие истинное и придуманное, факт и фикцию; их сила – в способности придавать рассказу логичность и правдоподобие лишь посредством его цельности. Такие рассказы рождаются всегда в коллективном коммуникативном контексте и стоят друг с другом в определенной связи: рассказы рождают другие рассказы. Часто это просто вариации одной модели, одного