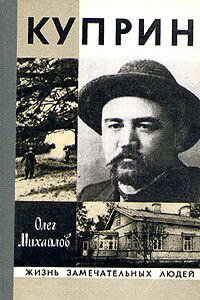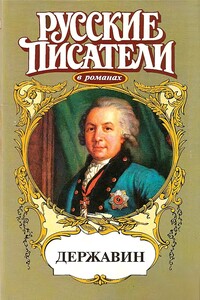Час разлуки | страница 34
Ветер разогнал лохмотья туч, открыв пологую спину Святой горы. Четко обозначился человеческий профиль сожженного до шлака Кара-Дага. И таинственным светом в провалах между зубцами Сюрю-Кая замерцала даль, словно обещая что-то там, за горизонтом жизни.
Он спустился к воде. С сухим шорохом и скрежетом перемещалась взад и вперед мелкая галька. Свинцово-тускло блестела осенняя вода, пугая своей затаившейся массой в бездонной яме, на другой стороне которой была уже Турция. Там, на горизонте, вода образовала с краем неба беспросветную траурную полосу.
Здесь одиночество было настолько всепоглощающим, что не оставляло места для жалости к себе, ропота или отчаяния. Вблизи холодного моря, под пустым небом оно обретало величественность, придавало силы, навевало уверенность и чувство вечности. Казалось, все умерло, и жив только он один.
Он шел по причалу. Он шел, и все бежало под ним и вокруг него: море, причал, берег, тучи, луна. У самого края, там, где днем мальчишки ловят бычков и где изредка можно поймать на морского червя кефаль, он стал смотреть в пенисто-зеленые бугры. Море просыпалось. Постепенно нарастал влажный грохот.
И из однообразного биения, движения моря вперед и назад сама собой стала складываться мелодия, от которой сладко и больно заныло сердце:
Отец очень редко вспоминал эту песню. На неожиданной для всех родных Алексея, скоропалительной и бедной свадьбе все было не как у людей, начиная с того, что невеста не имела собственного белого платья и взяла его у подруги, и кончая тем, что в спешке, в безденежье мама подарила молодым столовый мельхиоровый набор. «Ножи? Вилки? Колоться будут всю жизнь…» — шушукались Аленины старухи.
Мудрейший, ненавидевший спиртное (его отец, волостной писарь, умер после жестоких запоев), на свадьбе растрогался, тянулся к рюмке и, глядя мокрыми глазами на Алексея с Аленой, слыша непрестанно повторяющееся и такое оскорбительное для жениха: «Горько! Го-орько!» — вспомнил что-то свое, давнее. Когда Алексей танцевал, не очень умело водя «лисьим шагом» — фокстротом Аленину Веру, Мудрейший, соловевший на диване, тихонько затянул сперва без слов, а затем громче, с чувством выпевая каждое слово, эту песню разлуки и прощания. Алена, стоявшая среди подруг в подколотом английскими булавками подвенечном платье, которое своей излишней просторностью придавало ей такой вид, словно она была уже в положении, выбежала из комнаты с красным от слез лицом… «Но были же, были дни и даже месяцы счастья!»