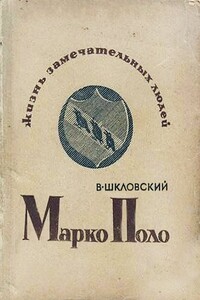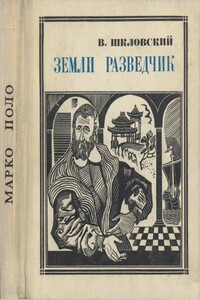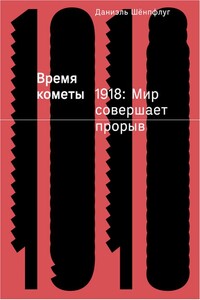Жили-были | страница 61
Отсюда он писал академику А. А. Шахматову: «…здесь то же самое, что и в большой тюрьме, называемой современным государством. Разница лишь количественная, а ничуть не качественная. И, пожалуй, во многих отношениях здесь как будто лучше: ясно, без обиняков, без лицемерия».
О футуристах подробней
В начале статьи «Как делать стихи?» Маяковский писал: «…Самую, ни в чем не повинную старую поэзию, конечно, трогали мало… Наоборот, — снимая, громя и ворочая памятниками, мы показывали читателям Великих с совершенно неизвестной, неизученной стороны.
Детей (молодые литературные школы также) всегда интересует, что внутри картонной лошади. После работы формалистов ясны внутренности бумажных коней и слонов».
Но это слова 1926 года, сказанные человеком, понявшим свое время и себя.
Началось это иначе, хотя в истории трудно найти начало.
С низовьев Днепра приехали Бурлюки, издав маленький квадратный сборник на обратной стороне обоев; он назывался «Садок судей».
В нем напечатались Бурлюки, Василий Каменский, Велимир Хлебников, Гуро.
Кружок получил имя древней греческой колонии на Днепре — «Гилея». Она давно исчезла, но Бурлюки оказались хорошими соседями: они сохранили имя Гилей.
Сама группа еще только образовывалась. Потом она приняла имя «будетлян» (от слова «буду»), издав книжку «Пощечина общественному вкусу». В той книге были в первый раз напечатаны даты — цифры Хлебникова. Напечатаны они столбиками: предполагалось, что даты разделены числом 317, или взятым само по себе, или умноженным. Последняя строка выглядела так: «Некто 1917».
Я встретил тихого, одетого в застегнутый доверху черный сюртук Велимира Хлебникова на одном выступлении.
— Даты в книге, — сказал я, — это годы разрушений великих государств. Вы считаете, что наша империя будет разрушена в тысяча девятьсот семнадцатом году? («Пощечина» была напечатана в 1912 году.)
Хлебников ответил мне, почти не пошевелив губами:
— Поняли меня первым.
Рушилось старое. Рушилось и многое в поэзии.
Происходила смена жанров: одни поэты после символизма уходили в самую простую тематику, неистребленную потому, что она прежде не была поэтичной; во главе их были Михаил Кузмин и Анна Андреевна Ахматова. Другие пытались уйти или в науку, или в вещи, эстетически отвергнутые.
Тредиаковский и Ломоносов отказывались от славянщины. Поэт Владимир Нарбут печатал книгу славянским шрифтом и называл ее «Аллилуйя». Книга, напечатанная на синеватой бумаге, как бы повторяла внешность богослужебных книг, но была полна богохулений, и Нарбуту пришлось уехать пережидать в Абиссинию.